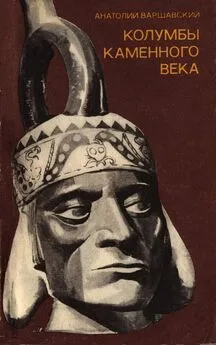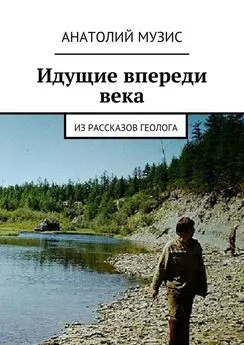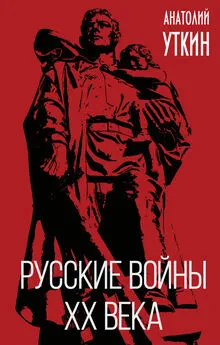Анатолий Зотов - Западная философия XX века
- Название:Западная философия XX века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Проспект
- Год:1998
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Зотов - Западная философия XX века краткое содержание
Предлагаемая вашему вниманию работа была подготовлена профессорами философского факультета МГУ, ведущими курс по истории современной зарубежной философии в качестве учебного пособия для студентов и аспирантов. Выполненная при поддержке Фонда Сороса, в рамках программы «Обновление гуманитарного образования в России», она была рекомендована в качестве учебного пособия для ВУЗов и издана чрезвычайно ограниченным тиражом в 1994 г., который был, в соответствии с правилами Фонда Сороса, бесплатным и полностью разослан по российским ВУЗам.
http://fb2.traumlibrary.net
Западная философия XX века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Первая половина и особенно первая четверть XX века была периодом оживленных гносеологических дискуссий. Мода на иррациональную философию жизни, сокрушившую величественный монумент Разуму, возведенный немецкой классической философией, начинала проходить. Если невозможна спекулятивная метафизика, то возможны спекуляции о том, что, как и в каких пределах мы познаем. Гносеология заняла центральное место в философских построениях мыслителей самых различных школ и направлений. Почти все крупнейшие философы того времени непосредственно обращаются к проблеме познания: в Европе — Гуссерль, Рассел, Уайтхед, Витгенштейн и участники «Венского кружка», в Америке — прагматисты Джеме и Дьюи, представители различных направлений «реализма». Все эти мыслители признают существование объективной реальности вне человеческого сознания. И поэтому все они «реалисты». Однако этот «реализм» является лишь некоторой условностью, в рамках которой разрабатывается весьма разнящиеся эпистемологические концепции. В американской философии представлены две разновидности реализма: неореализм, постулирующий независимость объектов познания и одновременно их имманентность сознанию (что в онтологическом плане вело к утверждению принципиальной однородности объекта и субъекта), и критический реализм, признающий непосредственные данные сознания в качестве элемента, опосредствующего познание объекта. С критикой неореалистов выступил ряд философов, которые в 1920 году выпустили сборник статей «Очерки критического реализма». Сантаяна опубликовал в нем небольшую статью «Три доказательства реализма». Эпистемологическая проблематика оказывается в центре внимания американского мыслителя.
Сантаяна определяет реализм как всякое допущение возможности познания объекта так, что «восприятие и мышление отнесены к объекту, который является чем-то большим, нежели опыт самого восприятия и мышления» (69,163). При таком допущении возникают два вопроса: какую меру независимости и самостоятельного существования можно приписать объекту и какую степень «буквальности» и адекватности объекту можно требовать от наших идей и ощущений. Из признания независимости объекта вытекает, что знание транзитивно, то есть, восприятия и идеи, а точнее, непосредственные данные сознания, в них содержащиеся, переносятся на внешний объект и идентифицируются с ним. Таково первое основоположение реализма. Второе утверждает относительность знания: данные сознания не являются точными копиями объектов (иначе невозможны ошибки и заблуждения), а более или менее достоверными представлениями о них, их символами. Различая явление (наши идеи и восприятия) и действительность («подлежащую действительность, то есть субстанцию» (69,164), Сантаяна вводит третий компонент в структуру познавательного акта — непосредственные данные сознания, или «сущности». «Под „сущностью“ я понимаю универсалию любой степени сложности и определенности, которая может быть дана непосредственно, будь то чувству или мысли» (69,168). Собственно сущность и представляет внешний объект, идентифицируясь с ним в восприятии или в мышлении. Но тождество сущностей и вещей виртуальное; в то время как последние действительно существуют, говорить о существовании идеальных сущностей не приходится. Они даны сознанию, они наличны, они обладают неизменными эстетическими и логическими свойствами, но «они не вступают во внешние отношения и не обладают физическим статусом» (69,168).
В «Трех доказательствах реализма» Сантаяна еще не употребляет термина «животная вера» (animal faith), но то, что приводится в качестве «биологического аргумента» есть, по сути дела, иллюстрация той роли, которую животная вера играет в познании и, в целом, в жизни человека. В существовании трансцендентальных объектов нашего опыта мы убеждаемся благодаря природному инстинкту. Объекты познания часто представляют для нас практический, жизненный интерес. Обнаруживая и удовлетворяя наши органические потребности, мы убеждаемся не только в собственной субстанциональности, но и в том, что субстанциональны и действительно существуют данные в опыте объекты наших стремлений. Когда ребенок плачет и просит достать луну, — описывает Сантаяна, — очевидно, предметом его желаний является не образ луны, сформированный в его сознании, не сущность данная ему, а реальный объект, такой же материальный, как и его тянущаяся к луне рука. Биологическая потребность не оставляет место для сомнений в реальном существовании се объектов.
Обращаясь к «психологическому аргументу», Сантаяна подвергает критике всяческие попытки отождествить действительность с субъективным опытом этой действительности. Ни субъективный идеализм типа фихтеанского, ни «мистические или пантеистические формы трансцендентализма» не могут быть до конца последовательными. Отождествляя объекты опыта с восприятиями и идеями, они сталкиваются с таким феноменом действительности, который невозможно отрицать или объявить исключительно субъективным переживанием: время не просто дано нам в опыте, оно — условие возможности этого опыта. Радикальность позиции не выдерживается ни субъективистами, ни трансценденталистами, ибо требование свести всю реальность, включая и время, к феноменам индивидуальной психики или психики некоего абсолютного духа, невыполнимо. Прошлое и будущее не могут быть просто идеями, данными в настоящем, в момент переживания. Живое существо, вовлеченное в поток существования, живет в постоянном обращении назад, к прошлому опыту, и в ожидании будущих событий, «…из всех жизненных уверенностей и потребностей самой настоятельной является вера в реальность времени» (69,176). Свой психологический аргумент Сантаяна формулирует следующим образом: «Живое существо, переживающее поток событий и живущее в постоянно изменяющихся ретроспекциях и ожиданиях…вряд ли может сомневаться в том, что то самое прошлое, которое оно вспоминает, когда-то было наличным, и что то будущее, которого оно ожидает и трудится с тем, чтобы оно в надлежащий момент стало наличным, станет таковым. И эта вера представляет собой самый радикальный пример реализма» (69,176). В «логическом аргументе» Сантаяна отстаивает самостоятельный статус сущностей. Они не есть «восприятия или состояния ума», они не являются «моментами жизни, о существовании и характере которых они свидетельствуют» /69,179/. Сущности идеальны, и их «логический или эстетический характер неотчуждаем» (69,181). Но как же тогда они становятся живыми впечатлениями, сообщениями о действительности? «…Биение пульса бытия, которое мы ощущаем каждую минуту, — пишет Сантаяна, — присуще не данному — чисто фантастической сущности, а нам» (69, 178-9). Наша биологическая природа, «живая субстанция», «организм или его центральная часть — психика», — вот что оживляет созерцание сущностей и превращает его в живой опыт текучей и изменчивой действительности, частью которой мы являемся. «…Когда бы ни дана была сущность, — резюмирует Сантаяна, — всегда присутствует существование, они присутствуют дважды: один раз — логически, ибо имеет место факт интуиции (данной сущности — Т.Е.) , второй раз — в соответствии со строением мира, в котором мы живем, ибо интуиции не могут возникать вне органического процесса» (69,180).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: