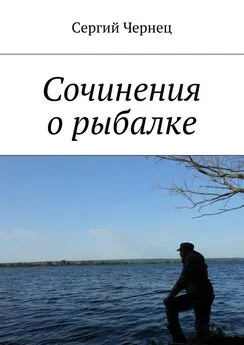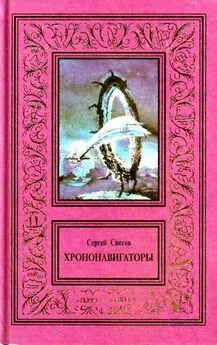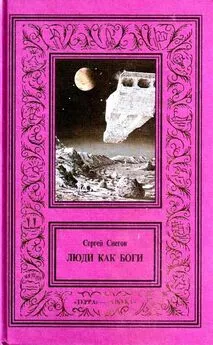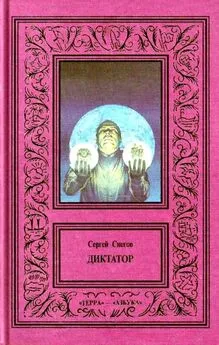Сергей Трубецкой - Сочинения
- Название:Сочинения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство «Мысль»
- Год:1994
- Город:Москва
- ISBN:5-244-00578-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Трубецкой - Сочинения краткое содержание
Настоящий том Сочинений известного русского философа С. Н. Трубецкого (1862–1905) включает основное его произведение по истории античной философии «Учение о Логосе в его истории» и две небольшие работы — «О природе человеческого сознания», «Основания идеализма», в которых глубоко раскрываются собственные философские взгляды мыслителя, так называемый конкретный идеализм.
Сочинения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Каково же особенное содержание апокалиптических верований этой эпохи, сравнительно с мессианическими чаяниями прежнего времени? Каковы их отличительные признаки?
Известный историк Шюрер, автор лучшей книги по истории иудейского народа в эпоху Христа, следующим образом перечисляет эти признаки. 1) С течением времени горизонт апокалиптики расширяется все более и более и охватывает всю вселенную. Грядущее царство обнимает не одну Палестину, а все человечество; суд Божий касается не одного дома Израиля и его врагов, но всех племен и народов земли, всей твари и всех духов. 2) В связи с возрастающим религиозным индивидуализмом в новых мессианических чаяниях все более и более высказывается интерес личного спасения и личного индивидуального возмездия. В более раннюю эпоху все упования сосредоточиваются на возрождении, спасении и воскресении и торжестве народа, теперь развивается вера в личное участие праведных в блаженстве мессианического царства, в воскресение мертвых и в загробное воздаяние. 3) Будущее представляется в чертах все более и более сверхъестественных, сверхприродных. Ранее оно рисовалось в рамках земной действительности, хотя идеализированной; теперь оно является в новом небесном свете, причем между «нынешним веком» и «будущим веком» устанавливается полная противоположность. «Нынешний век» (олам хаззе), находящийся под безбожною властью князя мира сего и его ангелов, подлежит конечному чудесному суду и упразднению; царство будущего века (олам хабба) сходит с неба вместе с Мессией и небесным новым Иерусалимом. Наконец, 4) эсхатологические и мессианические представления все более и более становятся предметом догматической книжной богословской разработки [451] Schurer II, 499–505.
. Подобная характеристика, в общем верно отмечающая господствующие тенденции апокалиптики, может быть, однако, принята не иначе как с значительными оговорками. Прежде всего вышеприведенные черты присущи не всем произведениям апокалиптики; а затем все они встречаются нам ранее, в памятниках ветхозаветных. Сам Шюрер допускает это отчасти, хотя и в недостаточной степени: новая апокалиптика имеет еще более глубокие корни в предании Ветхого Завета, чем это показывает почтенный историк. Рассмотрим перечисленные им признаки. Во-первых, универсализм; он сказывается в отдельных апокалипсисах, но мы уже отметили и в пророческих писаниях представления о всемирном суде, о просвещении и спасении всех народов; с другой стороны, параллельно такому универсализму мы должны, однако, отметить и в апокалиптике старинную националистическую тенденцию, которая нередко является весьма узкою; и даже там, где иудейское царство будущего изображается всемирным, было бы ошибочно заключать, чтобы народы, подвластные ему, непременно считались причастными его блаженству. Во-вторых, индивидуализм. И эта черта, бесспорно, развивается в нашу эпоху; но и ее мы находим несравненно ранее, поскольку всякая интенсивная религиозность предполагает личное отношение к Богу; а затем и про нее мы не можем сказать, чтобы она безусловно определяла собою эсхатологические чаяния, поскольку сознание солидарности Израиля в спасении ярко выступает в отдельных памятниках. Правда, в эпоху Христа вера в загробную жизнь и возмездие была распространена в тех или других формах во всех кругах иудейства, за исключением саддукеев. Вера в воскресение также пользовалась широким, но все же меньшим распространением, а в связи с этим некоторого ограничения требует и то, что Шюрер говорит о супранатурализме апокалиптиков. Мы знаем опять-таки, что уже и в пророческих писаниях говорится о преображении всей твари; но с другой стороны, в некоторых апокалипсисах мы встречаемся с чрезвычайно грубыми представлениями о благоденствии и долгоденствии мессианской эпохи и о восстановлении царства Давида [452] Ср. Dalnian, Die Worte Jesu mit Berucksichtigung d. nachkanonischen Jud. Schrifttums u d aramaischen Sprache (1898) I, 108: он также признает, что в рассматриваемый период Божество представляется более трансцендентным, чем прежде. Но вместе он полагает, что ходячее мнение о том, будто само «спасение» представляется вследствие этого как нечто «чисто-трансцендентное», — нуждается в значительном ограничении.
. Наконец, четвертый и последний признак — книжный и богословский характер позднейшей апокалиптики. Со времени господства книжников вся литература естественно принимает такой характер, что отмечается критиками уже на многих произведениях, принадлежащих ко второй половине персидского владычества; те немногие апокалиптические памятники, которые до нас дошли, не составляют исключения в этом отношении. Но это еще нисколько не означает, чтобы эсхатологические верования не распространялись в самых широких кругах и помимо книжников, на что указывают народные мессианические движения, успех проповеди Крестителя и самого христианства. Ожидание личного, индивидуального Спасителя, Мессии, по-видимому, всего сильнее было распространено именно в народных кругах, между тем как среди книжников и священников скорее наблюдается как бы опасливое отношение к такому мессианизму, о чем свидетельствует весь Новый Завет. Поэтому мы не находим в эпоху Христа строгого, догматически выработанного учения о Мессии ни в народе, ни у книжников, несмотря на тенденцию к такой разработке. Разнообразие представлений о спасении Израиля, о последних временах и о самом Мессии но допускает строго определенной богословской схемы, хотя в этих представлениях, несомненно, выражаются старинные предания, которые постепенно фиксируются. Некоторые из этих преданий были приняты христианством, другие — были отвергнуты им. Но образ Мессии Иисуса был настолько нов, несмотря на всю связь Его с проповедью пророков, что христианское учение о Нем не могло довольствоваться прежними представлениями и требовало новых понятий — вывод чрезвычайно важный для всего нашего исследования.
Действительно новою чертою, характеризующею всю эпоху, является вера в загробную жизнь и возмездие — все равно после воскресения или помимо него, в загробном мире. Эту веру связывают с развитием религиозного индивидуализма, и несомненно, что понятие личного возмездия, которое мы находим, напр., уже у Иезекииля, получает полное развитие лишь при господстве закона и под его дисциплиной. Другие исследователи объясняют загробные чаяния евреев, и в особенности их веру в воскресение, влияниями парсизма, — вопрос, к которому мы еще вернемся. Но опять-таки у Иезекииля (как и в некоторых псалмах) мы находим предсказание коллективного воскресения дома Израилева — представление, которое вытекает из самого существа еврейской религии точно так же, как вера во всемогущество Ягве. Переход от коллективного воскресения Израиля к индивидуальному воскресению отдельных сынов его мог произойти легко и без посредства внешних влияний, при развитии понятия о личном возмездии. Религиозное основание веры в воскресение указано самим Христом: Ягве есть Бог живых, а не мертвых. Если в древности из этого выводили заключение, что в шеоле прекращается общение с Ним, то именно эта мысль должна была привести к признанию конечного торжества Его над самою смертью (Ис. 25): самый шеол не представляет границы всемогуществу живого Бога, и пророчество грядущего воскресения сознается как истинное откровение Божие [453] Что воскресение считалось возможным и ранее, показывают сказания о чудесах пророков Илии (3 Ц. 17) и Елисея (4 Ц. 4, 25–37).
.
Интервал:
Закладка: