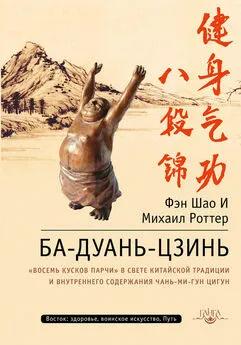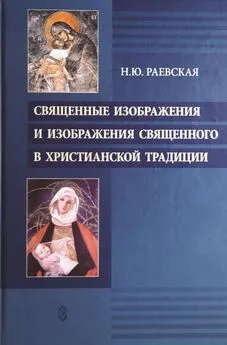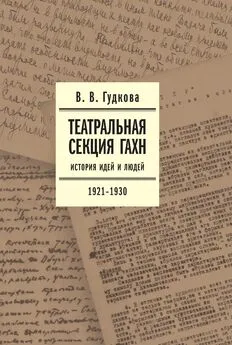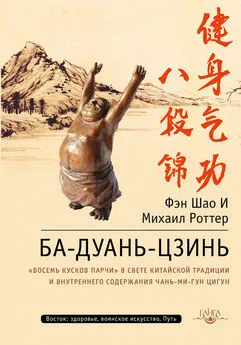Борис Тарасов - Куда движется история? (Метаморфозы идей и людей в свете христианской традиции) ОТРЫВОК
- Название:Куда движется история? (Метаморфозы идей и людей в свете христианской традиции) ОТРЫВОК
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Тарасов - Куда движется история? (Метаморфозы идей и людей в свете христианской традиции) ОТРЫВОК краткое содержание
Это отрывок из книги доктора филологических наук, профессора Литературного института Бориса Николаевича Тарасова, автора книг «Паскаль» и «Чаадаев», вышедших в серии «ЖЗЛ», «Непрочитанный Чаадаев, неуслышанный Достоевский» и многих других.
Куда движется история? (Метаморфозы идей и людей в свете христианской традиции) ОТРЫВОК - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Из сопоставления «жира» и «чая», с одной стороны, «людских жизней» и «света» — с другой, очевидно, как в сознании «самопромышляющего» индивида объективно ничтожные вещи принимают уродливо-непомерное субъективное значение. Расширение и омассовление таких несоответствий, когда «вещи» подчиняют «человека», а усовершенствование средств материально-телесного существования людей заменяет духовные цели жизни, стало одним из самых существенных признаков так называемого «общества потребления», глубинные истоки которого следует искать именно в Ренессансе. Из того же корня растут и такие, столь различные по видимости, явления, как позитивизм или оккультизм, фашизм или демократия, марксизм или фрейдизм. И путь от оптимистически мажорного лозунга «Человек — это звучит гордо» до деструкции человеческого облика в пессимистически минорной формуле «Человек человеку — волк» (или, как сейчас еще добавляют, — свинья), до превращения «титана» в марионетку «невидимой руки» Адама Смита, в куклу анонимных экономических сил, в психоаналитический «мешок», наполненный физиологическими стремлениями под контролем либидо, хотя и пестр и извилист на поверхности истории, но неуклонен и последователен в ее глубинных метаморфозах.
Решающим этапом на этом пути от Возрождения к Нигилизму стала эпоха Просвещения, начиная с которой мир начал гораздо более ускоренными темпами погружаться в состояние фундаментальной метафизической раздвоенности и социально-антропологической шизофрении. Новая, без оглядки на авторитеты, «самоуверенность исследующего разума», о которой пишет Бибихин, все более раздроблявшая «цельное человеческое существо» и разветвлявшая его специализацию, превращавшая virtus в vis, отождествлявшая добродетель уже не с «мудростью-любовью-мужеством», а с «силой-умением-мастерством», приводила и к новым парадоксам в представлениях человека о самом себе. Говоря словами А.Ф. Лосева, в новой картине мира «человек должен был превратиться в ничтожество и только бесконечно раздувался его рассудок». «Научные» парадигмы «раздувшегося рассудка», утопического гуманизма и просветительского сознания, в лоне которого формировались невнятные социальные проекты Нового времени, причудливо сочетали и сочетают абстрактные идеи свободы, равенства, взаимного уважения и т. п. (можно добавить современные словосочетания: прав человека, общечеловеческих ценностей, цивилизованного общества, европейского дома, нового мирового порядка и т. п.) с материалистическим принижением человека как «подобия Божия», с моральным редукционизмом и отрицанием традиций. «Никаких внешних авторитетов какого бы то ни было рода они не признавали, — писал Энгельс о просветителях, продолжавших поиск «счастливой полноты бытия». — Религия, понимание природы, общество, государственный строй — все было подвергнуто самой беспощадной критике, все должно было предстать перед судом разума и либо оправдать свое существование, либо отказаться от него. Мыслящий рассудок стал единственным мерилом всего существующего… Все прежние формы общества, государства, все традиционные представления были признаны неразумными и отброшены как старый хлам; мир до сих пор руководился одними предрассудками, и все прошлое достойно лишь сожаления и презрения…»
Своеобразная вражда к прошлому и даже борьба с ним оказались при переходе от теоцентризма к антропоцентризму необходимыми условиями для более радикального изменения ценностных координат и самой картины мира, в которой христианская традиция и историческая память мешали целиком отдаться рассудочно-эмпирической пустоте настоящего и до конца утратить этическое отношение к действительности. «Чистому» разуму как инструменту власти и господства над миром традиционные идеалы казались «хламом» и «предрассудками», ибо препятствовали возвышению «естественного человека» и сужению его духовного горизонта до узко натуралистических пределов, внедрению новых установок сознания для особого акцентирования позитивистски наблюдаемых и математически исчисляемых пластов бытия и выделения в нем рационалистических, прагматических, гедонистических сторон. Однако возводимая на «естественных» основаниях постройка вскоре превратилась, по словам того же Энгельса, в «злую карикатуру» на блестящие обещания просветителей. И иного результата по большому счету нельзя было ожидать, ибо в подкладке такой «естественности», очередного витка гуманистической риторики, республиканских и демократических новшеств заключалось реальное содержание упомянутой выше гоббсовской формулы «человек человеку — волк». Если личность, со всеми своими духовными чувствованиями и нравственными переживаниями, принимает себя, опираясь на материалистическое мировоззрение, лишь за мышь, пусть и «усиленно сознающую мышь» (так выражается герой «Записок из подполья»), тогда нелепо и нелогично надеяться на какое-то братство среди людей. на практическое осуществление каких бы то ни было привлекательных общечеловеческих лозунгов. (Человек произошел от обезьяны, следовательно, люди должны любить друг друга — так вслед за Достоевским иронизировал Вл. Соловьев над абсурдным силлогизмом и шизофреническим раздвоением, скрытыми в основе утопического прожектерства всякого рода современных гуманистов, наивно, неправомерно и опасно сочетавших моральный редукционизм материалистического мировоззрения с эвдемоническим человеколюбием). Тогда естественно и логично ощущать или осознавать свою жизнь в категориях самосохранения и борьбы за существования — в тех категориях, в которых собственно человеческие и действительно высшие свойства личности, резко выделяющие ее из природного мира, такие, например, как милосердие или сострадание, праведность или правдивость, совестливость или справедливость, благородство или самоотверженность, утрачивают свою подлинную сущность и самостоятельную значимость, либо мыслятся, если воспользоваться известным эпиграфом к «Максимам» Ларошфуко, как переряженный порок, как некий условный адаптирующий и корректирующий механизм, который на своем уровне и в своей сфере играет роль аналогичную той, что в психоанализе Фрейда выполняет прагматический принцип реальности по отношению к гедонистическому принципу удовольствия.
В результате вера во временные и относительные ценности (в прогресс, науку, государство, гражданское общество, деньги, свои собственные силы и т. д.) оказывается обманчивой. а очередное «крайнее напряжение всех сил», «счастье деятельного существования», «полное развертывание способностей» безотносительно к добру и злу еще раз оборачиваются построением Вавилонской башни, которое заканчивается социальным муравейником, превращающимся в курятник, или хрустальным дворцом с «парикмахерским развитием». Подобные метаморфозы и снижающие, вульгаризирующие исторические модификации «счастливой полноты бытия» как бы заранее запрограммированы тем, что любой, изобретенный эмансипированным разумом, идеал оказывается поверхностным и грубым, поскольку не только не преображает эгоцентрическую природу человека. но зачастую маскирует, утончает и усиливает ее разрушительные свойства в плоских и сниженных представлениях о целях и смыслах его пребывания на земле, а потому попытки его реализации не прерывают, а нередко и разветвляют цепочки господствующего в мире зла и безумия.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: