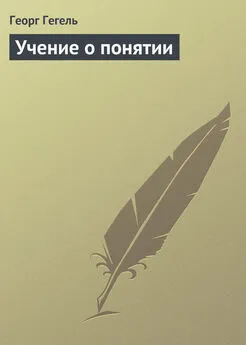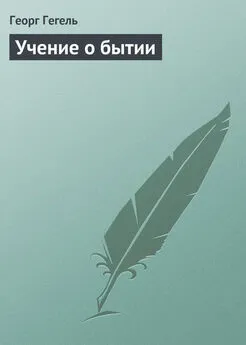Георг Вильгельм Фридрих Гегель - Учение о бытии
- Название:Учение о бытии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Типография М.М. Стасюлевича
- Год:1916
- Город:Петроград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георг Вильгельм Фридрих Гегель - Учение о бытии краткое содержание
К 200-летию «Науки логики» Г.В.Ф. Гегеля (1812–2012)
Первый перевод «Науки логики» на русский язык выполнил Николай Григорьевич Дебольский (1842–1918). Этот перевод издавался дважды:
1916 г.: Петроград, Типография М.М. Стасюлевича (в 3-х томах — по числу книг в произведении);
1929 г.: Москва, Издание профкома слушателей института красной профессуры, Перепечатано на правах рукописи (в 2-х томах — по числу частей в произведении).
Издание 1929 г. в новой орфографии полностью воспроизводит текст издания 1916 г., включая разбивку текста на страницы и их нумерацию (поэтому в первом томе второго издания имеется двойная пагинация — своя на каждую книгу). Единственным содержательным отличием двух изданий является текст предисловий в первом томе:
1916 г.: Предисловие к русскому переводу, стр. VII–XXII;
1929 г.: От издательства, стр. VII–XI.
В переводе Н.Г. Дебольского встречаются устаревшие на сегодня слова, формы слов и обороты речи.
Особенности электронного издания:
1. Состоит из трех файлов — по числу книг в произведении. В первом файле приводятся предисловия обоих изданий. В третьем файле не приводится алфавитный указатель ко всему произведению (стр. 219–222 бумажного издания).
2. Текст печатается с пагинацией, номер страницы указывается в ее начале нижним индексом в фигурных скобках.
3. Весь текст приводится в современной орфографии (например, в отличие от издания 1929 г. используется твердый знак «ъ» вместо апострофа «’»). Слово «Бог» и относящиеся к нему местоимения (напр., «Он») пишутся с большой буквы. Ударение над русской буквой о передается с помощью буквы европейского алфавита ó.
4. Немецкие слова и выражения приводятся в старой орфографии печатных изданий (напр., «Seyn»).
5. Разрядка текста заменена курсивом (курсив, используемый в бумажных изданиях крайне редко, сохранен).
6. Формулы с дробями приведены к линейному виду. В качестве знака умножения используется звездочка (*).
7. Греческие слова и выражения приводятся без диакритических знаков.
8. Проверка выбранного шрифта: греческая альфа (α), буквы немецкого алфавита (äöüß).
Учение о бытии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Засим предполагается, что пространство, в которое здесь перемещены субстанции, не состоит из простых частей; ибо оно есть воззрение, т. е. по кантову определению представления, которое может быть дано лишь посредством одного единичного предмета, а не так называемое дискурсивное понятие. — Как известно, из этого кантова различения воззрения и понятия возникло много путаницы относительно воззрения, и дабы сохранить понятие, пришлось распространить его значение и область на всякое познание. Таким образом выходит, что и пространство, так же как и самое воззрение, должны быть поняты , если только вообще желают что-либо понимать. Отсюда возник вопрос, не должно ли и пространство, хотя бы, как воззрению, ему принадлежала простая непрерывность, по понятию своему быть мыслимо, как состоящее из простых частей, т. е. пространство оказалось пораженным тою же антиномиею, какая принадлежала лишь субстанции. В самом деле, если антиномия мыслится отвлеченно, то она, как было указано, захватывает количество вообще, а стало быть, также пространство и время.
Но так как в доказательстве принимается, что пространство не состоит из простых частей, то это должно бы было служить основанием к тому, {121}чтобы не перемещать простого в тот элемент, который не соответствует определению простого. Но при этом и непрерывность пространства приходит в столкновение со сложностью; они смешиваются между собою, первая подставляется вместо второй (что в умозаключении приводит к quaternio terminorum ). По Канту категорическое определение пространства состоит в том, что оно одно , и что части его основываются лишь на его разграничении так, что они не предшествуют одному всеобъемлющему пространству, как его составные части , из коих его можно сложить (Krit. d. rein. Vern. 2 изд., стр. 39). Здесь непрерывность пространства установлена очень правильно и определительно в противоположность сложности из составных частей. В доказательстве же помещение субстанций в пространстве должно проводить за собою « находящееся одно вне другого многообразное» и «тем самым сложное». Между тем, как только что сказано, способ нахождения многообразного в пространстве должен решительно устранять сложность и соединение предшествующих ему составных частей.
В примечании к доказательству антитезиса приводится категорически и другое основное представление критической философии, именно что мы имеем понятие о телах, лишь как о явлениях , как таковые же они необходимо предполагают пространство, как условие возможности всякого внешнего явления. Но если здесь под субстанциями разумеются лишь тела, как мы их видим, осязаем, вкушаем и т. д., то о том, что они такое по своему понятию, не поднимается собственно и речи, а говорится лишь о чувственно воспринимаемом. Таким образом доказательство антитезиса следовало бы вкратце изложить так: Весь опыт нашего зрения, осязания и т. д. обнаруживает нам лишь сложное; даже лучшие микроскопы и тончайшие ножи не столкнули нас с чем-либо простым. Следовательно, с чем-либо простым не может столкнуться и разум.
Итак, если мы точнее взглянем на противоположность этих тезиса и антитезиса и освободим их доказательство от всяких бесполезных подробностей и запутанности, то доказательство антитезиса будет содержать в себе — чрез перемещение субстанций в пространство — ассерторическое признание непрерывности , а доказательство тезиса — чрез признание сложности за способ отношения субстанций — ассерторическое признание случайности этого отношения и, стало быть, признание субстанций за абсолютные одни . Вся антиномия сводится таким образом к разделению и прямому утверждению обоих моментов количества и притом, как совершенно разделенных. С точки зрения простой дискретности субстанция, материя, пространство, время и т. д. совершенно разделены, их принцип есть одно. С точки зрения непрерывности это одно есть снятое; части обращаются в делимость на части, остается возможность деления, только как возможность, не приводящая в действительности к атому. Но если мы остановимся на том определении, которое высказано об этих противоположностях, то окажется, что уже в непрерывности содержится момент атомов, так как она есть только возможность части, а также, что это разделение, эта дискретность {122}снимает всякое различие одних — ибо простое одно есть то же, что другое — и тем самым включает в себе их равенство и, стало быть, непрерывность. Поскольку каждая из двух противоположных сторон сама по себе содержит в себе другую, и ни одна из них не может быть мыслима без другой, то отсюда следует, что истина свойственна не одному из этих определений, взятому отдельно, но лишь их единству. Таково истинно диалектическое воззрение на них, так же как их истинный результат.
Бесконечно остроумнее и глубже, чем рассмотренная кантова антиномия, диалектические примеры древней элейской школы , особенно касающиеся движения, которые также основываются на понятии количества и находят в нем свое разрешение. Было бы слишком подробно также рассматривать их здесь; они касаются понятий пространства и времени и могут быть излагаемы по поводу их или в истории философии. Они делают величайшую честь разуму их изобретателя; они имеют результатом чистое бытие Парменида, так как они указывают на разложение всякого определенного бытия в самом себе и таким образом сами по себе суть течение Гераклита. Поэтому они заслуживают более основательного рассмотрения, чем то, какое дается обычным объяснением, провозглашающим их за софизмы; это утверждение держится за эмпирическое восприятие по примеру столь ясного для здравого человеческого смысла действия Диогена, который, когда один из диалектиков указывал на противоречие, содержащееся в движении, не пожелал далее напрягать свой разум, но сослался на очевидность путем молчаливого хождения взад и вперед, — утверждение и опровержение, к которому прибегнуть конечно легче, чем углубиться в мышление, удержать и самою мыслию разрешить ту запутанность, к которой приводит мысль и именно мысль, не идущая далее, а вращающаяся в области обычного сознания.
Разрешение, которое дает Аристотель этим диалектическим построениям, заслуживает высокой похвалы и содержит в себе истинно умозрительные понятия о пространстве, времени и движении. Он противопоставляет бесконечной делимости (которая, поскольку она представляется осуществленною, тожественна бесконечному разделению на части, атомы), на которой основываются знаменитейшие из этих доказательств, непрерывность, свойственную одинаково и времени, и пространству так, что бесконечная, т. е. отвлеченная множественность оказывается содержащеюся в непрерывности лишь в себе, в возможности . Действительное по отношению к отвлеченной множественности, равно как и отвлеченной непрерывности, есть их конкретное, самое время и пространство, как по отношению к последним движение и материя. Отвлеченное есть лишь в себе или только в возможности; оно есть лишь момент некоторого реального. Бейль , находящий в своем Dictionnaire , art. Zenon, предлагаемое Аристотелем разрешение диалектики Зенона «жалким» (pitoyable), не понимает, чтó значит, что материя делима до бесконечности лишь в возможности ; он возражает, что если материя делима до бесконечности, то она действительно содержит бесконечное число частей и есть таким образом бесконечность не в возможности, но бесконечность {123}реально и действительно существующая. Между тем самая делимость есть лишь некоторая возможность, а не существование частей , и множественность вообще положена в непрерывности, лишь как момент, как снятая. Остроумный рассудок, в котором, впрочем, никто не превосходит и Аристотеля, также недостаточен для того, чтобы усвоить и обсудить его умозрительные понятия, как не в состоянии вышеприведенная низменность чувственного представления опровергнуть доказательства Зенона; этот рассудок заблуждается, признавая за нечто истинное и действительное такие мысленные вещи, отвлеченности, как бесконечное число частей; а это чувственное сознание неспособно возвыситься над эмпирическим вымыслом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: