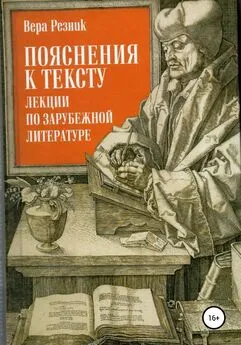Григорий Амелин - Лекции по философии литературы
- Название:Лекции по философии литературы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Языки славянской культуры
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-9551-0083-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Амелин - Лекции по философии литературы краткое содержание
Этот курс был прочитан на философском факультете РГГУ в 2003–2004 годах. Но «Лекции по философии литературы» — не строгий систематический курс, а вольные опыты чтения русской классики — Пушкина, Толстого, Достоевского с точки зрения неклассической философии, и одновременно — попытка рассмотрения новейшей литературы XX века (от Анненского до Набокова) в рамках единства Золотого и Серебряного веков.
Книга чистосердечно для всех, кто интересуется русской литературой.
Лекции по философии литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Пробуждение себя, прорыв через пелену действительности к тому, что есть на самом деле. Это редукция к метафизической границе мира с ее конечным пунктом, где все факты и состояния равноправны, как и их смысловая субординация. В конечном пункте — зазор, écart absolu, в котором герой отрешается от великой несправедливости мира, и это отрешение освящено образом детства (мы уже касались этого эпизода в Лекции IV): «Когда-то в детстве, на далекой школьной поездке, отбившись от прочих, — а может быть, мне это приснилось, — я попал знойным полднем в сонный городок, до того сонный, что, когда человек, дремавший на завалинке под яркой беленой стеной, наконец встал, чтобы проводить меня до околицы, его синяя тень на стене не сразу за ним последовала… о, знаю, знаю, что тут с моей стороны был недосмотр, ошибка, что вовсе тень не замешкалась, а просто, скажем, зацепилась за шероховатость стены… — но вот, что я хочу выразить: между его движением и движением отставшей тени, — эта секунда, эта синкопа, — вот редкий сорт времени, в котором живу, — пауза, перебой, — когда сердце как пух…
И еще я бы написал о постоянном трепете… и о том, что всегда часть моих мыслей теснится около невидимой пуповины, соединяющей мир с чем-то, — с чем, я еще не скажу…» (4, 74–75). Детство здесь — не прошлое, а некий вневременной — с точки зрения обыденного течения времени — момент, фиксированная точка предельного самостояния, полдень, вершина. Эта точка равноденствия и максимально насыщена, и максимально пуста. Цинциннат стирает времена: вспоминая прошлое («когда-то в детстве…»), он фиксирует его в настоящем времени своего теперешнего знания («о, знаю, знаю…»), чтобы тут же катапультировать его в будущее время письма:
«И еще я бы написал о…» Он вспоминает будущее. Герой неспроста отбивается в школьной поездке от других, он готовится к чему-то, что доступно лишь в одиночестве. Он видит каким-то внутренним оком вещь невозможную — человек на мгновение опережает собственную тень. Между хозяином и его тенью — секунда, синкопа, открывающая совершенно иную реальность. «Мгновение есть вечность», — говорил Гете [ «Der Augenblick ist Ewigkeit»]. В этом мгновенном зазоре упаковывается особое время, не знающее деления на прошлое и будущее, оно все — в длящемся настоящем. И это дление как передовое онтологическое переживание означает, что в этом раздвинутом занавесе — зияние длящегося опыта, не имеющего никаких предметов.
Вынутый из естественного течения времени момент сам является временем некоего состояния. Цинциннатовский опыт означает зависимость только от формы, от беспредметного. Момент вынут из всякой временной перспективы последовательного действия, изъят наиконкретно, без опосредований, без причин, не во времени, но сам он есть время — стоячий момент, выделенный, но не делимый. Обнаруживаются новые, ранее неведомые герою ощущения, которые возникают вокруг некоторого корня — невидимой пуповины, связывающей его с высшей реальностью. Жив Цинциннат именно в этой паузе, в этом сердечном перебое, в котором первозданный трепет связи с бытием.
В этом промежутке, требующем полноты присутствия, рождается свобода: «Цинциннат Ц. почувствовал дикий позыв к свободе, к самой простой, вещественной, вещественно-осуществимой свободе, и мгновенно вообразил — с такой чувственной отчетливостью, точно это все было текучее, венцеобразное излучение его существа…» (4,87). Акт мысли весь целиком содержится в мгновенном и неделимом настоящем. Это не есть некий привилегированный момент времени, означенный днем казни. Нечто, что является концом, или зрелым завершением и вечным мгновением истины, не имеет выделенного момента времени. Любой момент может быть последним часом, которым надо кончить свою историю. И для этого акта нет ритуала, нет иерархии времен. Жизнь расположена вертикально к горизонтальному движению времени. Герой соизмеряет себя с несоизмеримым. Еще Аристотель провозгласил: человек, который ни в ком не нуждается, есть либо Бог, имеющий все в себе самом, либо дикий зверь. Это Набоков и называет безусловным и настоящим даром. Он Бог, и сам об этом знает. Набоковский сверхгерой, обреченный, говоря языком Толстого на «одиночество, полнее которого не могло быть нигде: ни на дне моря, ни на земле», через письмо обретает абсолютную власть.
Что видит Цинциннат? Строго говоря: ничего. Пустое место, дырку от бублика. Человек, прервав дрему, встает, чтобы проводить его до околицы. Белая стена. На ней тень. Герой сам знает, что ошибся, тени не отстают. Но есть одна тень, которая однажды отстала. Не тень отстала, Цинциннат опередил себя в трансцендирующем порыве и волнении. И в этом зазоре он видит то, что абсолютно не равно содержанию видения, поэтому оно и обозначено символом паузы, разинутого промежутка. Тень, споткнувшись, через секунду нагоняет хозяина, а Цинциннат остается в состоянии видения опоздавшей тени, которая является иносказанием его нового состояния. И это не субъективное состояние, а событие в мире, необратимым образом сказывающееся на всей его дальнейшей судьбе. Видение незнакомого человека длится во времени. Пауза же знаменует временной разрыв в этом непрерывном наблюдении. То необъяснимое чувство трепета и радостного дара жизни, которые охватывают героя, не переходят в следующий момент наблюдения за незнакомцем. И это состояние взывает к поиску смысла и понимания. Образу отставшей тени не находится места в содержании самого образа, он подвешивается в цинциннатовском видении. Реализуя это видение, герой проделывает обратное путешествие от смерти к жизни. В мире, где люди являются тенями самих себя, Цинциннат верит тени.
Позднее пауза найдет Цинцинната: «…Это было так, словно одной стороной своего существа он неуловимо переходил в другую плоскость, как вся сложность древесной листвы переходит из тени в блеск, так что не разберешь, где начинается погружение в трепет другой стихии. Казалось, что вот-вот, в своем передвижении по ограниченному пространству кое-как выдуманной камеры, Цинциннат так ступит, что естественно и без усилия проскользнет за кулису воздуха, в какую-то воздушную световую щель…» (4,119). Пауза, синкопа, щель — все это подготовка заключительной мистерии, но такая подготовка, о которой Мандельштам говорил, что она подчас важнее самого исполнения.
Редукция — срезание всего, что вошло в тебя помимо тебя, без твоего согласия и принципиального сомнения, а на правах непонятого пока и поэтому требующего расшифровки личного впечатления. Цинциннат ищет свой акт, которым выявляется действительная индивидуализация и позитивная сила человеческого самоопределения, включающего истинную бесконечность (а не просто безразличие в смысле свободы «от») и являющаяся существенной прибылью к реальной природе человека. Герой пишет: «…Я снимаю с себя оболочку за оболочкой, и наконец… не знаю, как описать, — но вот что знаю: я дохожу путем постепенного разоблачения до последней, неделимой, твердой, сияющей точки, и эта точка говорит: я есмь! — (…) о мое верное, мое вечное… и мне довольно этой точки, — собственно, больше ничего не надо» (4,98). «…Все ему нужно знать», — говорит о нем директор тюрьмы. Но все, что нужно знать Цинциннату, — это он сам. Последняя, неделимая сияющая точка когитального бытия. Вечный билет в оба конца. Начало и первопричина, мировой пуп и исходный пункт всего. Сократическая точка самопознания, которая необратимым образом сказывается на всем, что будет потом. Казнь и проходит под знаком сократической смерти: в этот же день в городе идет с «громадным успехом злободневности опера-фарс „Сократись, Сократик“» (4,185). «Его [Цинцинната] карандаш сократился до огрызка…» Сократ первым почувствовал жизнь как проблему и рискнул перевести ее на язык самосознания, за что и был казнен афинским судом. Цинциннат невзначай попал под суд и был уже приговорен к казни, когда собственную смерть положил на весы самосознания. Сократ шел к казни, набоковский герой — от нее, но путь один. Декарт: «Но существует также некий неведомый мне обманщик, чрезвычайно могущественный и хитрый, который всегда намеренно вводит меня в заблуждение. А раз он меня обманывает, значит, я существую; ну и пусть обманывает меня, сколько сумеет, он все равно никогда не отнимет у меня бытие, пока я буду считать, что я — нечто. Таким образом, после более чем тщательного взвешивания всех „за“ и „против“ я должен в конце концов выдвинуть следующую посылку, всякий раз, как я произношу слова Я есмь, я существуюили воспринимаю это изречение умом, оно по необходимости будет истинным» [61] Рене Декарт. Сочинения в двух томах. М., 1994, т. II, с. 21–22.
.
Интервал:
Закладка: