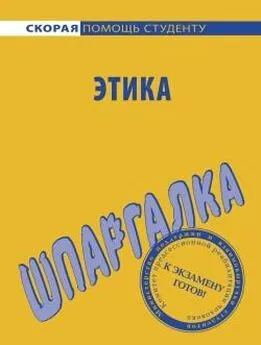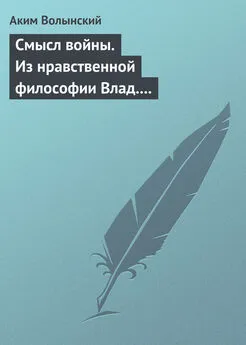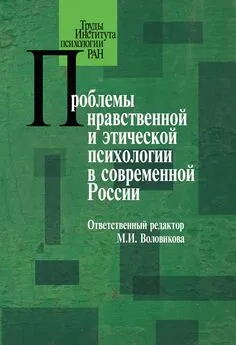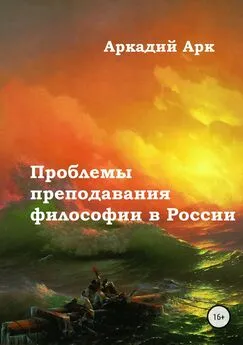Юрий Давыдов - Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной философии.
- Название:Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной философии.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1982
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Давыдов - Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной философии. краткое содержание
Книга доктора философских наук Ю. Н. Давыдова посвящена проблемам нравственной философии: страх смерти и смысл жизни, этический идеал и нигилизм, преступление и раскаяние и т. д. В книге рассматривается традиция этической мысли, восходящая к литературному творчеству Л. Толстого и Ф. Достоевского. Нравственная философия русских писателей противопоставляется аморализму Ницше и современных ницшеанцев, включая таких философов, как Сартр и Камю.
Книга рассчитана на молодого читателя.
Рецензенты: академик М. Б. Митин; доктор философских наук, профессор В. А. Карпушин; доктор философских наук, профессор И. К. Пантин.
© Издательство «Молодая гвардия», 1982 г.
М.: Мол. гвардия, 1982. — 287 с, ил. В пер.: 75 к., 50 000 экз.
Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной философии. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Судя по книге С. Великовского, у самого Мальро мы не найдем прямого ответа на эти вопросы, хотя косвенный ответ на них все же у него имеется. Этот ответ — выход за рамки магического круга ницшеански-экзистенциалистских посылок, очерченных исходным соображением, согласно которому коли в жизни нет никакого смысла, значит, является ложным и представление о каких бы то ни было «сущностях». Раз это так, то в жизни человека не «сущность» предшествует его «существованию», а, наоборот, его «существование» предшествует «сущности». Ведь главный вопрос, интересующий Мальро в послевоенный период, — это вопрос о «сущности» человека, представляющей собою нечто более высокое, чем каждый партикулярный индивидуум, и раскрывающейся в отношении к тому специфически человеческому измерению, которое Мальро называет измерением «священного». Трактовка этого понятия Мальро роднит его с трансценденцией. Речь идет об измерении, возвышающемся над каждым единичным индивидуумом, но не отождествляемым с традиционно религиозными представлениями о боге. Однако в своем стремлении сделать измерение «священного», как бы предшествующим конфессионально-религиозному, которое каждый раз представляет собой лишь его историческую конкретизацию, а главное, в стремлении замкнуть его пределами человечества и его творческой способности, высшим воплощением которого в конечном счете оказывается художник, Мальро явно сближается с другим немецким экзистенц-философом — Мартином Хайдеггером.
Так же как и у немецкого мыслителя, нравственный импульс Мальро, сыгравший такую большую роль в его послевоенной духовной переориентации, со временем как бы растворяется в том эстетически-творческом акте, в котором каждый раз заново рождается измерение «священного». То, что предстает у Мальро как нечто «трансцендентное» по отношению к каждому отдельному индивиду, не становится у него «трансцендентным» по отношению к человечеству. Этот итог, на наш взгляд, препятствует тому, чтобы рассматривать движение автора «Завоевателей» и «Удела человеческого» от нигилизма к гуманизму как «попятное движение» (слова С. Великовского), реставрирующее религиозные элементы гуманизма. Да и вообще можно ли говорить о «попятном» движении, коль скоро речь идет о преодолении нигилизма, то есть отходе от абсолютного нуля?
Если (судя по книге С. Великовского) у Мальро и не всегда отчетливо выявлены нравственные мотивы послевоенной идейной эволюции, так что мы вынуждены судить о них на основании свидетельств более или менее косвенных, то у Камю дело обстоит здесь совсем иначе. Как раз нравственные импульсы своего духовного движения он делает едва ли не главным предметом послевоенных размышлений, как чисто философских, так и литературно-художественных. Как правильно констатируется в книге «В поисках утраченного смысла», кое-что из написанного Камю в философско-публицистическом трактате «Бунтующий человек» в связи с вопросом об убийстве может и должно быть расценено как «суровая и честная» самооценка автора «Постороннего» и «Мифа о Сизифе».
Согласно теперешнему воззрению Камю, одинаково характерному и для «Чумы» (1947), и для цитируемой книги (1951), «чувство бессмыслицы, когда из нее берутся извлечь правила действия, делает убийство по меньшей мере безразличным и, следовательно, допустимым. Если ни во что не верить, если ни в чем нет смысла и нельзя утверждать ценность чего бы то ни было, тогда все позволено и все неважно. Нет «за» и «против», убийца ни прав, ни не прав. Можно топить печи крематориев, а можно и заняться лечением прокаженных. Злодейство или добродетель — все чистая случайность и прихоть» [4].
Действительно, сказанное нельзя прочесть иначе как самое решительное осуждение Мерсо — героя того произведения, с которым, собственно, Камю и вошел в литературу, — а вместе с ним и автора «Постороннего».
«Нераскаявшийся Раскольников» раскаивается здесь с полнейшей искренностью, ничего не утаивая от людей. Причем раскаяние это выглядит тем более глубоким, что Камю осуждает себя с точки зрения как раз той максимы, которая была попрана в «Постороннем», а теперь не только восстановлена в правах, но приобрела достоинство единственно возможного абсолюта: «Не убий!»
Ужаснувшись тем выводам, к которым «чувство бессмыслицы» привело ницшеанствующих национал-социалистов, и обостренным нравственным чутьем искренне раскаявшегося человека почувствовав «избирательное сродство» между ними и его «посторонним», Камю видит единственно возможный выход из обнажившегося здесь тупика морального нигилизма. Необходимо утвердить нравственный абсолют, и утвердить его как раз на той максиме, которая неизменно оказывалась первой жертвой всех «сверхчеловеков» как в прошлом, так и в настоящем. Свое непосредственное неприятие убийства «другого», которое, как видим, было лишь временно заглушено ницшеанской софистикой, развеявшейся как дым в очной ставке с ее национал-социалистской «реализацией», Камю стремится обосновать философски, апеллируя к картезианской ясности и отчетливости человеческого разума.
Он рассуждает так. Если жизнь — это высшее благо людей и если каждый живущий человек имеет право на это благо, то никто не вправе лишить его жизни, коль скоро он сам не нарушил право убийством другого. Если же тем не менее социально-исторические условия складываются так, что во имя свободы людей возникает необходимость убить их поработителя — тирана, то человек, взявший на себя эту «сверхчеловеческую» миссию, имеет право сделать это при одном непременном условии: убив тирана, он должен затем покончить с собой, заплатив за отнятую жизнь своей собственной и тем самым восстановив нарушенное равновесие человеческого существования. Таким образом нарушение онтологической «меры» человеческого бытия, вынужденное необходимостью борьбы за свободу, будет содержать в самом себе и условия своего собственного восстановления, полагая предел дурной бесконечности новых и новых убийств.
Характерно, что эта концепция Камю вызвала едва ли не больше гневных возражений, чем та индульгенция убийцам, которая была выдана авторам «Постороннего» и «Мифа о Сизифе». Но еще более показательной следует считать аргументацию, используемую противниками «Бунтующего человека» Камю. Она целиком воспроизводит аргументы Гегеля против кантовской этики, изложенной в «Критике практического разума», хотя уже давно стало очевидным, что Гегель просто не хотел принимать всерьез саму кантовскую постановку вопроса, а потому говорил «не о том».
В этом русле находится и та очень суровая, временами даже сердитая критика, которой камюсовское «Не убий!» подвергается в книге «В поисках утраченного смысла». Интонация тем более бросается в глаза, что общий тон книги скорее аналитически объективен и отражает стремление прислушаться к любым «резонам», не спеша с «оценками».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: