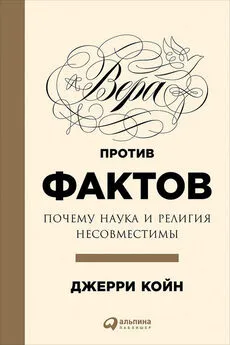Эмиль Бутру - Наука и религия в современной философии
- Название:Наука и религия в современной философии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Красанд
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-396-00102-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эмиль Бутру - Наука и религия в современной философии краткое содержание
В предлагаемой книге ее автор, известный французский философ Э. Бутру (1845–1921), пытается найти пути разрешение конфликта между наукой и религией при помощи противопоставление натуралистического и идеалистического направлений. Во введении дается исторический обзор отношений между религией и наукой с античных времен до современной автору эпохи. В первой части автор подробно разбирает важнейшие натуралистические теории: позитивизм О. Конта, эволюционный агностицизм Г. Спенсера, монизм Э. Геккеля и т. д. Вторая часть посвящена идеалистическому направлению — учениям А. Ричля, У. Джемса и др.
Рекомендуется философам, историкам и методологам науки, студентам и аспирантам гуманитарных вузов, всем заинтересованным читателям.
Наука и религия в современной философии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Можно ли рассматривать ату невозможность противоположного представления, которую испытывал здесь Спенсер, как иллюзию его воображения, как результат лености его ума, как индивидуальную особенность его темперамента? Замечательно, что совершенно ту же психологическую черту, то же непобедимое сопротивление отрицанию, испытывают в данном случае не только Лютер или Кант, но и значительное число современных мыслителей. Вот, например, те слова, которыми профессор Вильям Джемс заканчивает свою известную книгу „Thе varieties of religious experience“ 14)
„Я могу, конечно, усвоить себе точку зрение сектанта науки и вообразить, что нет другой реальности, кроме мира ощущений, кроме законов и объектов науки. Но каждый раз, когда я воображаю себе это, голос внутреннего наставника, о котором говорил Клиффорд, шепчеть мне на ухо: bosh! т. е. бессмыслица Чепуха есть чепуха (humbug is humbug), даже когда она украшена именем науки. Другими словами, целостное выражение человеческого опыта, когда я рассматриваю его в его живой действительности, непобедимо толкает меня выйти за узкие пределы науки в собственном смысле этого слова. Нет никакого сомнение в том, что реальный мир иначе устроен, чем это предполагает наука, что он гораздо более сложен. Таким образом, как объективные, так и субъективные основание привлекают меня к той вере, которую я здесь исповедую. И, кто знает, быть может верность каждого из нас своим бедным маленьким, верованиям помогает самому Богу более деятельно выполнять свою великую миссию?“
Как видим, Герберт Спенсер далеко не единственный человек, чувствующий невозможность допустить, что наука довлеет себе и довлеет нам. Но, говорят нам, явление это объясняется чисто психологически, и притом таким образом, что ему нельзя придавать особенной важности. Это просто частный случай применение некоторого общего закона, определяющего собой отношение нашего разума к воображению. Известный английский моралист Стефен так формулировал этот закон: thе imagination lads behind the reason: воображение запаздывает по сравнению с разумом. После того как разум уже доказал ложность известного мнения, воображение, чувство, связанное с этим мнением, продолжает еще жить в течение более или менее значительного времени. Перемена в этой области требует внутренней работы и потому не может совершиться сразу; темь не менее в конце концов она все-таки совершается: сознание должно быть в согласии с самим собой, — таков высший закон; и из двух противоположных сил сохранится конечно разум.
Non possumus Канта или Герберта Спенсера всецело объясняется, согласно этому толкованию, Стефеновским законом. Без сомнение оно совершенно реально и совершенно искренно; но под влиянием прогресса человеческого разума, оно должно рано или поздно пасть.
Можно ли согласиться с такой оценкой?
И прежде всего приходится спросить себя, не опирается ли такая оценка на порочный круг, не принимает ли она за установленное, за данное, отрицательное решение того самого вопроса который ставит Герберт Спенсер. Последний хочет узнать, влечет ли за собой отрицание известных традиционных элементов религии отрицание самого ее принципа. а ему отвечают: так как религии, сверху до низу, вплоть до самых своих первичных основ, представляют здания, готовые рухнуть, то их необходимо разрушить до основания, необходимо уничтожить самые их развалины, самую память о них. так как всякие религиозные верования, со всех точек зрения, пусты и призрачны, то упорное желание находить в них нечто хорошее и истинное может, очевидно, корениться только в той медленности, с которой воображение и чувство следуют за прогрессом разума. Такой ответ не есть доказательство: это простое противопоставление одного тезиса другому. Справедливо ли, по крайней мере, хоть то, что констатированная Спенсером невозможность диктуется исключительно чувством и не имеет никаких основ в разуме?
Не подлежит сомнению, что Герберт Спенсер в своих философских доктринах, особенно в тех из них, которые касаются практики, отводил широкое место чувству. Вместе с большею частью англичан он рассматривал разум более как орудие, чем как принцип деятельности, и приписывал чувству способность приводить в движение душу. Но отсюда еще не следует, что теория непознаваемого опирается исключительно на чувство.
Основу теории познания, проповедуемой Спенсером, составляет положение, что познание, наиболее обработанное, в существе своем тожественно с представлениями, самыми обыденными. а так как обыденные представление очевидно являются смесью чувства и разума, то не подлежит сомнению, что с точки зрения Герберта Спенсера решительно всякое познание включает себя оба эти элемента, которые могут быть разделены лишь в абстракции диалектика. На вопрос о последних основаниях достоверности для Спенсера — как в порядке. научном, так и в порядке метафизическом — возможен лишь один ответ: достоверность покоится на чувстве, чувстве неизменном, заложенном в самой природе человека.
По-видимому нельзя не согласиться с Гербертом Спенсером в том, что решительное отделение разума от чувства должно быть признано несостоятельным, если только мы не хотим свести разум к диалектической технике рассуждений и не пытаемся восстановлять в душе человеческой те перегородки, которые с таким трудом разрушила современная психология. Живой, определенный, деятельный разум не есть нечто данное, некоторый обособленный, вечный и неподвижный атрибут души человеческой. Он изменяется, создает и формирует себя, поднимаясь все выше и выше. Он культивирует себя, питаясь истинами, как утверждал Декарт. Наука и жизнь — вот его двойная школа. Он комбинирует, упорядочивает, концентрирует и упрочивает наиболее основательное, полезное, человечное и возвышенное из того, что создается развитием всех человеческих способностей: опытом, чувством, воображением, желанием, волей. С полным правом, поэтому, играет он роль нашего высшего вождя как на практике, так и в теории.
И конечно, скорее именно к разуму, понимаемому в этом смысле, нежели к обособленному, слепому и инертному чувству, выдуманному абстрактным рационализмом, апеллирует Герберт Спенсер, желая узнать, возможно ли для человека отрицать Непознаваемое. И он полагает, что такое отрицание было бы противно разуму, было бы немыслимо даже в том случае, если бы мы, не погрешая против логики, могли утверждать, что явление себе довлеют, что наука должна и может устранить все тайны. Человеку пришлось бы отказаться от своих высших способностей, которые более чем что-либо другое, делают его человеком, если бы он согласился с допущением, что бытие и развитие исчерпывается наличными и возможными содержаниями нашего познания.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: