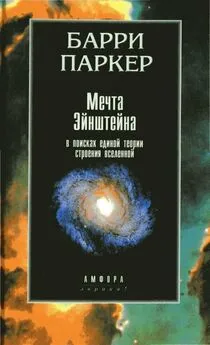Дэвид Чалмерс - Сознающий ум. В поисках фундаментальной теории
- Название:Сознающий ум. В поисках фундаментальной теории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книжный дом «ЛИБРОКОМ»
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:ISBN 978-5-397-03778-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дэвид Чалмерс - Сознающий ум. В поисках фундаментальной теории краткое содержание
Эта книга, впервые опубликованная в 1996 году, стала одним из самых заметных философских трактатов конца XX века. В наши дни уже не удастся найти серьезных работ по проблеме сознания, в которых не было бы ссылок на Чалмерса.
«Сознающий ум» — увлекательный философский рассказ о глубочайших парадоксах и тайнах сознания. Это провокативная работа, в которой сделана попытка обосновать «натуралистический дуализм», исходя из тезиса автора о нефизической природе сознания и его зависимости от функциональных схем в мозге. Чалмерс также утверждает, что его теория открывает новые перспективы для интерпретации квантовой механики и позволяет говорить о возможности сознательных роботов.
Ясность изложения, смелость идей, изобретательность мысленных экспериментов, точность рассуждений и широкая эрудиция автора делают эту книгу настоящим подарком для всех, кто интересуется философией.
Сознающий ум. В поисках фундаментальной теории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Из этого следует, что релиабилистская концепция знания не может снабжать нас знанием, достаточно прочным для того, чтобы ему можно было приписать тот характер, который свойствен нашему знанию о сознательном опыте, и поэтому эта концепция неприменима к данному случаю. Однако все сказанное мной о релиабилистском объяснении знания применимо и к каузальной концепции знания. Там, где есть каузальность, имеется и контингентность: существующая каузальная связь могла бы и не существовать. Если единственным источником обоснования убеждения о X является каузальная связь с X, то субъект не может наверняка знать, что данная каузальная связь существует. Он мог бы наверняка знать об этом лишь в том случае, если у него был бы какой‑то независимый доступ к X или к соответствующей каузальной цепи, но это означало бы, что его знание базируется не только на самой этой каузальной цепи. Всегда нашелся бы такой скептический сценарий, при котором все казалось бы этому субъекту точно таким же, но указанная каузальная связь отсутствовала бы, и X не существовал;
поэтому субъект не может наверняка знать об X. Но мы наверняка знаем, что обладаем сознанием; поэтому каузальное объяснение данного знания оказывается неадекватным.
Конечно, оппонент мог бы просто не согласиться с тем, что наше знание о сознании является достоверным, и заявить о существовании скептических сценариев, которые не могут быть исключены нами, — к примеру, сценария с зомби. Но всякий, кто избирает этот путь, скорее всего, изначально был элиминативистом (или редуктивным функционалистом) в вопросе о сознании. Если кто‑то признает, что наши непосредственные данные не исключают возможности того, что мы зомби, то он должен заключить, что мы действительно зомби: ведь это дает гораздо более простую картину мира. Причина того, что проблема сознания вообще существует, однако, в том, что наши непосредственные данные исключают указанную возможность. Принимать сознание всерьез — значит соглашаться с наличием у нас таких непосредственных данных, которые исключают его несуществование. Разумеется, всё это опять‑таки можно оспорить, но суть в том, что у нас нет особых причин завязывать спор об этом на данном этапе аргументации. Мы давно уже расстались с элиминативистами и редуктивными функционалистами. Если мы принимаем сознание всерьез, то у нас есть серьезное основание считать неприемлемым каузальное или релиабилистское объяснение нашего феноменального знания.
Главная проблема упомянутых концепций в том, что они делают наш доступ к сознанию опосредованным, подобно тому как опосредован — каузальной цепью или надежным механизмом — наш доступ к окружающим нас объектам. Подобное опосредование уместно при наличии провала между нашей базовой эпистемической ситуацией и теми феноменами, о которых идет речь, как в случае внешнего мира: мы дистанционно связаны с окружающими объектами. Интуитивно ясно, однако, что наш доступ к сознанию вообще ничем не опосредован. Сознательный опыт находится в центре нашего эпистемического универсума; мы имеем прямой доступ к нему.
Это приводит к вопросу: что именно обосновывает наши убеждения относительно наших опытных переживаний, если не каузальная связь с ними и не механизмы формирования этих убеждений? Думаю, что ответ на этот вопрос очевиден: данные убеждения обосновываются наличием соответствующих опытных переживаний. К примеру, сам факт того, что в данный момент у меня имеется опытное переживание красного, обосновывает мое убеждение, что у меня имеется опытное переживание красного. Поменяйте это переживание на другое или уберите его вовсе, и главный источник обоснования этого моего убеждения будет устранен. Когда я убежден, что мой опыт состоит в том, что я слышу сильный шум, главной основой этого убеждения является мое опытное переживание сильного шума. В самом деле, какая еще основа могла бы здесь иметься?
Это обстоятельство можно подчеркнуть, отметив, как и раньше, что опыт является частью нашей базовой эпистемической ситуации. Замените мои переживания ярко — красного цвета переживаниями тускло — зеленого, и вы поменяете мои свидетельства в пользу наличия некоторых из моих убеждений, включая убеждение в том, что я переживаю нечто ярко — красное. Это отражается в факте невозможности создания такого скептического сценария, в соответствии с которым я находился бы в качественно идентичной эпистемической ситуации, но мои переживания были бы радикально иными. Мои переживания — часть моей эпистемической ситуации, и одно лишь их наличие свидетельствует в пользу ряда моих убеждений.
Всё это означает, что в опыте есть что‑то внутренне эпистемичное. Переживать — значит автоматически находиться в тесном эпистемическом отношении к переживанию, которое можно было бы назвать «знакомством». Даже концептуально невозможно наличие у субъекта такого переживания красного без какого‑то эпистемического контакта с ним: переживать — значит подобным образом соотноситься с этим переживанием.
Заметим, что я не утверждаю, что переживать — значит автоматически знать об этом опытном переживании в том смысле, в каком знание требует убежденности. Думаю, что такой тезис был бы ложным: у нас имеется немало опытных переживаний, относительно которых у нас нет никаких убеждений, а поэтому и никакого знания. Кроме того, можно переживать, совершенно не концептуализируя это переживание. Переживать и, следовательно, быть знакомым с этим переживанием — значит находиться в таком отношении к нему, которое является чем‑то более изначальным, чем убеждение: оно свидетельствует в пользу наших убеждений, но само по себе не составляет какого‑либо убеждения.
В самом деле, из сказанного мной не следует, что все убеждения об опытных переживаниях непогрешимы в том смысле, что каждое из таких убеждений автоматически оказывается в полной мере обоснованным. Поскольку убеждения об опытных переживаниях находятся на некоей дистанции от самих опытных переживаний, они могут формироваться по самым разным причинам — и подчас будут формироваться необоснованные убеждения. Если кто‑то, к примеру, недостаточно внимателен, он может выносить совершенно неверные суждения о собственных переживаниях. Мой тезис состоит не в том, что наличие опытного переживания — единственный релевантный фактор при обосновании убеждения относительно опыта или при отсутствии такого обоснования. Речь идет лишь о том, что это является одним из факторов — возможно, главным из них — и потенциальным источником обоснования, отсутствующим при отсутствии опыта.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: