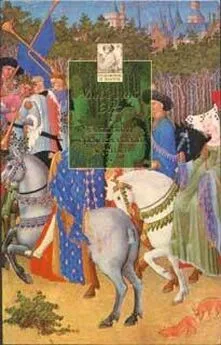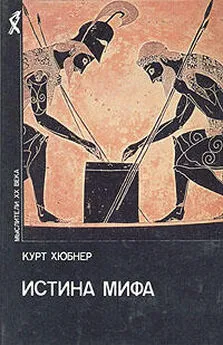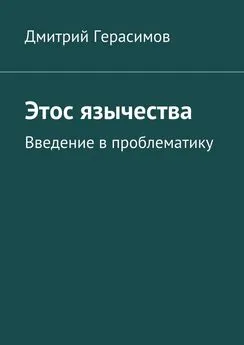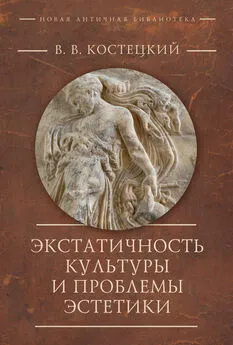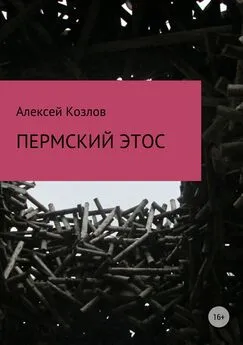БЕННО ХЮБНЕР - ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ЭТОС И ПРИНУДИТЕЛЬНОСТЬ ЭСТЕТИКИ
- Название:ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ЭТОС И ПРИНУДИТЕЛЬНОСТЬ ЭСТЕТИКИ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
БЕННО ХЮБНЕР - ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ЭТОС И ПРИНУДИТЕЛЬНОСТЬ ЭСТЕТИКИ краткое содержание
Книга представляет собой критику априоризма в этике. По мнению автора, долженствование не предшествует хотению ни в случае отдельного человека, опосредованного и итерсубъективной сферой языка (Апель), ни вне человека (Хёсле) Сегодня этический дефицит компенсируется преимущественно эстетически: если истины уже не очаровывают, истиной становится очарование.Но тогда возникает вопрос, не основываются ли сам этос и этическое в эстетическом. Ведь этос и смысл могли контитуироваться лишь там, где людям с их мега-физической потребностью казалось разумным расходовать себя ради Другого.Существование Другого,этоса как "обещания счастья" (la promesse du bonheur) было возможно лишь благодаря "счастью обещания" (le bonheur de la promesse), т.е., благодаря эстетическому феномену.
ISBN985-6329-40-X
ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ЭТОС И ПРИНУДИТЕЛЬНОСТЬ ЭСТЕТИКИ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
[94]
мире или репрезентировать ничто, быть просто наваждением. Ведь ДРУГОЕ на протяжении истории человечества - от магических культов, политеизма, монотеократических религий и до свастики, серпа и молота и, наконец, «бытия» Хайдеггера — служило магическому обольщению людей. Все желания, надежды, мечты и иллюзии, трансцендирующие данное мгновение, впадают в это ДРУГОЕ. Добавим к этому также и высказывания Хайдеггера о высоких надеждах, возложенных на решение вопроса о бытии. Очарованный бытием, Хайдеггер в свою очередь очаровал многих, в том числе и меня, хотя и на краткое время, увлек своим обаянием, причем хайдеггеровскому колдовству способствовала онтологическо-этимологическая магия языка. И все же спрошу еще раз, что стало бы с Хайдеггером, если бы он постиг истину бытия, проник в мистерию, — расколдовал бы он тогда в какой-то мере бытие?
ДРУГОЕ, ЧАРУЮЩЕЕ, всегда играло двойную роль. Содержательно оно служило исполнению наших желаний, проецируемых из несовершенного мира, т. е. разгрузке, миру, гармонии, спасению, благополучию, справедливости, примирению. Формально оно служило, прежде всего, ответом на наши мета-физические потребности, осознаваемые лишь исходя из скуки, потребности исхода, ускользания, ответом на наше требование эк-статически трансцендировать данное мгновение. Такой формальный ответ мог бы быть предпочтительнее содержательного, и это объясняет, почему многие молодые люди быстро меняют одну религию или идеологию на другую, одни чары на другие, что скорее говорит о ценности очарования другим, а не об истине ДРУГОГО. Очарованное, опьяненное, прельщенное иллюзией ДРУГОГО, божественной или утопической идеей, Я устремляет себя к ДРУГОМУ, эк-зистирует в ДРУГОЕ. Однако достигает ли Я ДРУГОГО, соединяется ли с Богом,
[95]
вступает ли в утопию в результате реализации идеи, это не играет с мета-физической точки зрения никакой роли, поскольку для исходящего Я дело не в том, чтобы прийти, а в том, чтобы стремиться идти, дело в филотопии, эк-стазе, трансценденции, психическом возбуждении. И это психическое возбуждение, эту увлеченность ДРУГИМ, эту трансценденцию Я воспринимает как удовольствие, радость, как « fruitio » (Августин) 25. Или, как я сказал в другом месте, надежда на счастье — это, прежде всего, счастье надежды, счастье ото-двинутости и, если угодно, даже с-двинутости*. Поскольку прибытие упраздняет отбытие, и Я вновь оказывается перед вопросом «куда?», обусловливающим убегание прочь, Я экзистенциально не заинтересовано прибывать куда-либо. С другой стороны, есть эк-зистирование, трансцендирование и радость трансцендирования, ради которых Я в своей идентификации с ДРУГИМ в конечном счете хочет быть для ДРУГОГО и, значит, действовать и жертвовать для ДРУГОГО.
Радость трансценденции — психическая валюта, которой этическое Я вознаграждается за свои жертвы и самоотречение. Если подумать о том, что чем сильнее и глубже Я очаровано и одержимо ДРУГИМ, отрешается телесно, тем успешнее оно анестезирует себя физически и с ловкостью факира инсенсибилизируется по отношению к тяготам, боли и страданиям, то становится понятно, как мученики и религиозные или политические фанатики ради ДРУГОГО могут принимать и переносить телесные муки. И до настоящего времени верующие в той стране, где я пишу эту книгу, самоистязают себя поясом кающихся и взваливают на себя крест Христа не только символически. Они делают это для возбуждения эк-статического чувства, психической аффек-
* Т. е. безумия.
[96]
тации, чувства пребывания вне себя при помощи созерцания ДРУГОГО и погружения в ДРУГОЕ. Итак, если я здесь говорю об эстетике в связи с ДРУГИМ, ЭТОСОМ, МЕТАФИЗИКОЙ, то потому, во-первых, что восприятие [Wahr-nehmung ] есть принятие истины, т. е. aisthesis** ДРУГОГО как ИСТИНЫ, а во-вторых, потому, что aisthesis ДРУГОГО как ИСТИНЫ и как ЧАРУЮЩЕГО вызывает трансцендентную радость, « frutio »,психическое возбуждение, ради которого Я готово идти на жертвы.
Я напомню о молодом Марксе 26, который как-то сказал, что самым счастливым является тот, кто других делает счастливыми. В этой связи у меня возникает еретический вопрос: разве не хотелось и не пришлось ли Марксу ради своего собственного счастья осчастливить все человечество? Счастье всех как «действительное счастье», в противоположность потустороннему «иллюзорному счастью», — лишь предлог для его собственного этического счастья. К этому можно добавить и другой вопрос: разве не был сам Маркс как человек эстетический счастлив в утопиях, которые грезились ему и представлялись реализующимися с исторической необходимостью? Радикально продуманная и осуществленная утопия означает снятие и конец этического человека, его замену человеком эстетическим, лишним.
Там, где есть ДРУГОЕ как ИСТИНА и ЭТОС, где Я обязано ДРУГОМУ, там, естественно, искусство тоже обязано ДРУГОМУ. Задача искусства (идеологического и религиозного) состояла и состоит в том, чтобы действовать в духе эстетики истины и очарования, эстетики
* Немецкое cлово Wahrnehmung (восприятие, ощущение) является сложносоставным: wahr (истинный) и nehmen (принимать, воспринимать), т. е. может быть переведено буквально в значении «принятие истинного». ** Чувственное восприятие (греч.).
[97]
соблазна посредством миметически-образного или символического изображения ДРУГОГО (образы Бога и религиозные мотивы, свастика, серп и молот) и вообще посредством инсценирования ДРУГОГО и торжественного служения ему (в церквах и соборах с хором и фимиамом, в политических выступлениях и маршах), почитания и прославления ДРУГОГО (Бога, вождя, политических идей), очарования людей как легковерных реципиентов искусства посредством превращения ИДЕАЛЬНОГО в чувственно воспринимаемое. Это соответствует тому, что от Гегеля до Адорно считалось задачей идеалистической эстетики, а именно, в формулировке Гегеля, — привести идею к чувственному явлению. Не кто иной, как Гегель говорил о том, как выглядела бы явленная философская идея. При представлении ИСТИНЫ ДРУГОГО как КРАСОТЫ прежде всего речь идет о том, чтобы очаровать Я и посулами вознаграждения в виде радости трансценденции побудить его совершить то БЛАГОЕ, которого ДРУГОЕ требует от Я. И кто же, очарованный ДРУГИМ, околдованный imago* Бога или женщины, не готов пойти в огонь и воду, пока еще длится очарование? Выбора нет, поскольку колдовское наваждение означает тотальное снятие скуки, негацию экзистенциальной апории, необоснованности выбора; оно — счастье.
Итак, каким же образом оказывается возможным то, что искусство вступает на место религии? Как оказывается возможным то, что искусство служит эрзацем религиозного волшебства, само становится религией? Как метафизическо-этический дефицит может быть компенсирован благодаря эстетике? Для религиозной веры как чего-то психического, эмоционального содержание
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: