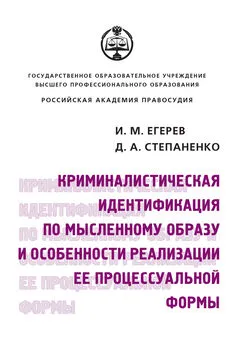Жан Делюмо - Идентификация ужаса
- Название:Идентификация ужаса
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алгоритм
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9265-0656-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жан Делюмо - Идентификация ужаса краткое содержание
Большинство людей на вопрос о том, чего они больше всего боятся, отвечают: «Я ничего не боюсь». Такой ответ не соответствует действительности, поскольку каждый из людей в то или иное время испытывает какой-нибудь страх. Одни из самых навязчивых страхов — страхи перед иррациональными и потусторонними силами. Ж. Делюмо и Д. Фрезер в своих работах анализируют именно такие страхи, характерные для всей истории человечества.
Ужас перед призраками, живыми мертвецами, ведьмами и колдунами, дьяволом и демонами долгое время господствовал в обществе, продолжает он жить и сейчас. Ж. Делюмо и Д. Фрезер с разных точек зрения показывают эволюцию этого ужаса, делают попытку идентифицировать его, а также выяснить причины его необыкновенной устойчивости.
Идентификация ужаса - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В известном смысле смерть неизбежна, но в смысле более глубоком — недоступна. Животное знать ничего не знает о смерти, хотя смерть отбрасывает человека к животному. Человек идеальный, воплощение разума, остается чуждым смерти: ее природе присуща животность бога, грязная (зловонная) и священная.
В смерти соединяются, неистовствуют отвращение и пылкая обольстительность; речь не о пошлом уничтожении, но о той самой точке, в которой сталкиваются последняя ненасытность и предельное омерзение. В страсти, что правит тьмой страшных игрищ или грез, отчаянно говорит не только желание быть моим «я», но и желание более не быть.
В ореоле смерти, и только в нем, мое «я» находит основу своей власти; в нем пробивается на свет чистота безнадежной насущности; в нем сбывается надежда моего я-которое-умирает (надежда умопомрачительная, горячечно-пламенная, заставляющая отступать границы грезы).
И в то же самое время удаляется, но не как пустая кажимость, а из-за своей зависимости от отброшенного в забвение мира (в основе которого взаимозависимость частей), плотски неощутимое присутствие Бога…
В темной до невозможности пустоте, в этом хаосе, в котором различимо уже и отсутствие хаоса (все тут — пустыня, стужа, сомкнувшая глаза ночь, но в то же время — какое-то тягостное, доводящее до исступления сияние), жизнь разверзается перед смертью, мое «я» вырастает до чистого предписания: «умри как собака» раздается во враждебных краях бытия; императиву этому нет применения в оставленном моим «я» мире.
Но в самой дальней своей возможности чистота предписания «умри-как-собака» отвечает настоятельной страсти — нет, не раба к господину: жизнь, посвящая себя смерти, подобна страсти любовников, в ней сказывается гневливая ревность, но никак не «авторитет».
Ну и чтобы покончить с этим, падение в смерть — грязная штука; в одиночестве по-иному тягостном, нежели одиночество обнажающихся любовников, как раз приближение гниения связывает мое я-которое-умирает — с наготой отсутствия.
В предыдущем ничего не было сказано о страдании, обычно сопровождающем смерть. А ведь страдание глубоко сопряжено со смертью, и ужас его проглядывает в каждой строке. Страдание, воображаю себе, сродни тому, что всегда играет в крушении всего и вся. Боль мало значит, ее трудно отличить от удовольствия, наступающего перед тошнотой, внутренним холодом, в котором я и гибну. Боль — это, возможно, лишь некое несовместимое со спокойным единством моего «я» ощущение; какое-то воздействие, внутреннее или внешнее, ставит под сомнение шаткую согласованность сложившегося существования, вызывает мое разложение, и как раз перед ужасом этого угрожающего мне воздействия я и трепещу. Не то чтобы боль обязательно грозила смертью — она срывает с существования покровы возможных действий, дольше которых мое «я» никак не могло бы прожить, она воссоздает смерть, обходясь без настоящих угроз.
В противовес тому: сколь мало значит смерть, со своей стороны я прав. В страданиях, правда, разум обнаруживает свою слабость, случаются и такие, с которыми он вовсе не может совладать; достигаемая болью степень силы являет всю легковесность разума; тем более — очевидная, противоразумная, бьющая через край ярость моего «я».
В некотором смысле смерть — самозванка. Мое «я», умирающее, как я говорил, отвратительной смертью, внимает разуму не более, чем какая-нибудь собака, по доброй воле замыкается в ужасе. Стоит ему оторваться хотя бы на миг от лежащей в его основе иллюзии, оно с распростертыми объятиями примет смерть, словно сон — ребенка (так бывает со стариками, молодецкие иллюзии которых мало-помалу угасли, или с юношами, живущими коллективной жизнью, — в них осуществляется разрушительная для иллюзий грубая работа разума).
В тоскливом характере смерти сказывается потребность человека в тоске. Без этой потребности смерть казалась бы ему легким делом. Умирая нехорошо, человек отдаляется от природы, порождает иллюзорный, человеческий, обработанный искусством мир; мы живем в трагическом мире, в искусственной атмосфере, завершенной формой которой выступает «трагедия». Нет трагедии для животного, которое не попадает в ловушку «я».
Экстаз рождается в этом трагическом, искусственном мире. Ясно, что любой объект экстаза порожден искусством. Все «мистическое познание» основывается на вере в присущую экстазу силу откровения; его следовало бы рассматривать, напротив, как в чем-то подобный прозрениям искусства вымысел.
Но раз уж я утверждаю, что в «мистическом познании» существование является творением человека, то это значит, что оно есть детище моего «я» и сущностной его иллюзорности; тем не менее экстатическое видение имеет какой-то необходимый объект.
Страсть моего «я», жгучая в нем любовь ищет себе какой-нибудь объект. Мое «я» достигает свободы лишь вне себя. Мне может быть известно, что я сотворил объект своей страсти, что сам по себе он не существует — и тем не менее он есть. Когда иллюзия развенчана, он, спору нет, меняется: это не Бог — ведь я его сотворил, но на том же основании — не ничто.
Объект этот, хаос света и тьмы, — катастрофа. Для меня он объект, но моя мысль меняет его по своему образу и подобию, хотя он же является ее отражением. Моя мысль, его отражая, обрекает себя на уничтожение, на низвержение канувшего в пустоту крика. Нечто необъятное, непомерное ломится со всех сторон с катастрофическим шумом; оно являет себя из какой-то нереальной бесконечной пустоты и в ней же с ослепительным треском исчезает. В грохоте столкнувшихся поездов, предвещая смерть, разлетается вдребезги зеркало — вот выражение неумолимого, всемогущего и сей же миг канувшего в ничто нашествия.
В общепринятых условиях время сводится на нет, замыкается в постоянстве сложившихся форм и предусмотренных изменений. Все вписанные в какой-то порядок движения останавливают время, замыкают его в систему мер и соответствий. Нет революции более глубокой, чем «катастрофа», — это время, когда рвется времен «связующая нить»; знамение его — истлевший скелет, развенчивающий иллюзорность его существования.
Итак, будучи объектом экстаза, время отвечает экстатическому пылу моего я-которое-умирает; равно как и время, мое я-которое-умирает сводится к чистому изменению, ни то ни другое не имеют реального существования.
Но ежели первоначальное вопрошание хранит свою силу, ежели в беспорядочности моего я-которое-умирает так и стоит этот вопросик: «Что же существует?»
Время не означает ничего, кроме убегания всего, что казалось истинным. Субстанциональное существование мира имеет для моего «я» исключительно скорбный смысл: в его глазах настоятельность субстанционального существования сравнима с приготовлениями к смертной казни.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
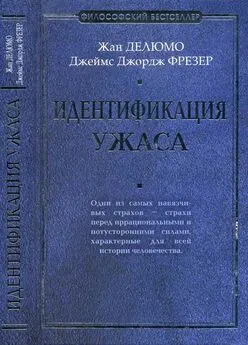

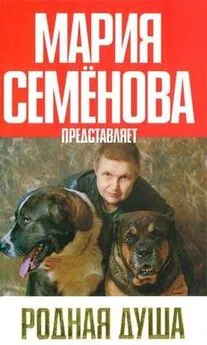
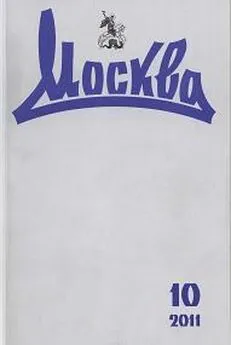

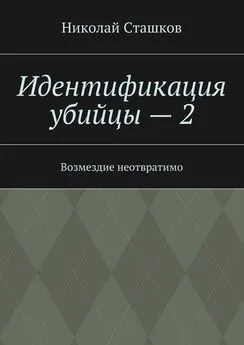
![Жан Рэ - Круги ужаса [Новеллы]](/books/1088163/zhan-re-krugi-uzhasa-novelly.webp)