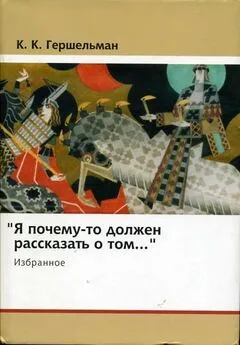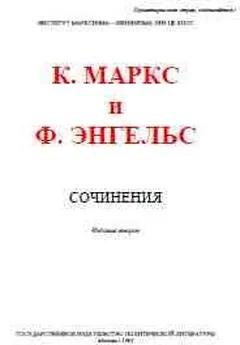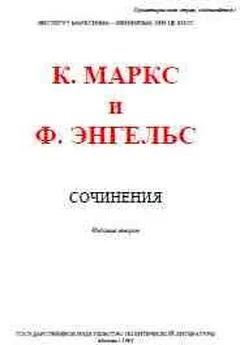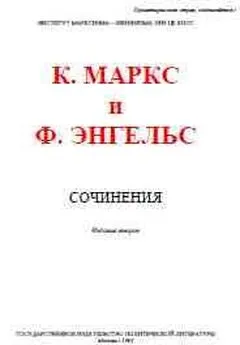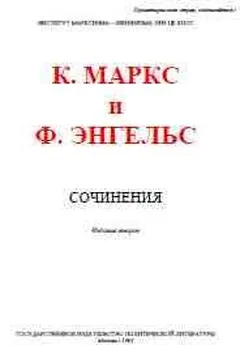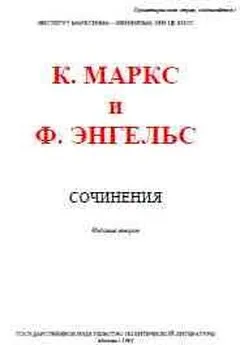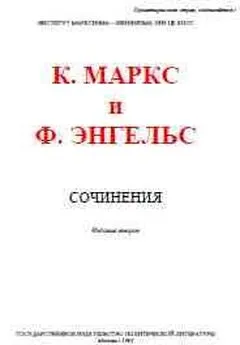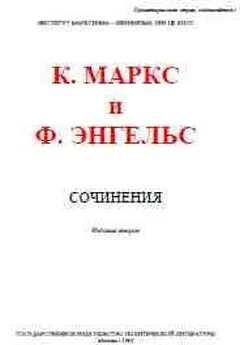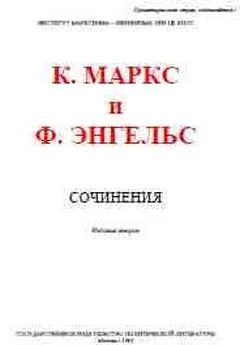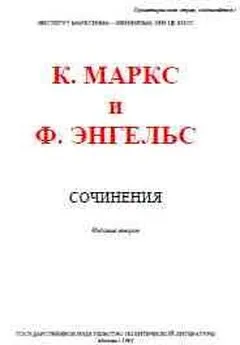Карл Гершельман - «Я почему-то должен рассказать о том...»: Избранное
- Название:«Я почему-то должен рассказать о том...»: Избранное
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:INGRI
- Год:2006
- Город:Таллинн
- ISBN:ISBN-10: 9985-9636-1-X ISBN-13: 978-9985-9636-1-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Карл Гершельман - «Я почему-то должен рассказать о том...»: Избранное краткое содержание
Высоко ценимый современниками Карл Карлович Гершельман (1899–1951), русский эмигрант, проживавший в Эстонии и Германии, почти неизвестен читателю дней. Между тем это был разносторонне талантливый человек — литератор и художник, с успехом выступавший как поэт, прозаик, драматург, критик, автор философских эссе, график и акварелист. В книге, которую Вы держите в руках, впервые собраны под одним переплетом стихи, миниатюры, рассказы, пьесы, эссе, литературно-критические и историко-литературные статьи К. К. Гершельмана, как ранее публиковавшиеся на страницах давно ставших раритетами газет и журналов, так и до сих неопубликованные (печатаются по автографам, хранящимся в архиве писателя).
«Я почему-то должен рассказать о том...»: Избранное - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе:
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе
На третье в ночь. Проснувшись рано,
В окно увидела Татьяна
Поутру побелевший двор,
Куртины, кровли и забор.
На стеклах легкие узоры,
Деревья в зимнем серебре,
Сорок веселых на дворе
И мягко устланные горы
Зимы блистательным ковром.
Всё ярко, всё бело кругом.
***
Ясно видя зло и страдания, Пушкин все-таки принимает жизнь в целом. Ценна всякая жизнь, независимо от вложенного в нее содержания. Ценен самый «материал» жизни, а не то, что из него сделано. Жизнь оправдана уже простым фактом своего существования, ее ценность самодовлеюща.
***
Аналогично этому и человек ценен, прежде всего, тем, что он жив, что он существует на свете, — независимо от его нравственных качеств.
…Хоть я сердечно
Люблю героя моего, —
это сказано непосредственно после убийства Ленского. В Пушкине нет лермонтовского демонизма: Лермонтов любит Печорина за убийство Грушницкого, Пушкин любит Онегина вопреки убийству Ленского.
***
Сквозь весь пессимизм одного из самых пессимистических путинских стихотворений — «26 мая 1828 г.» [193]— чувствуется это пушкинское парение над всеми разделениями жизни: разделениями на добро и зло, счастье и страдание, — чувствуется его олимпийское бесстрастие, спокойствие и ясность.
Дар напрасный, дар случайный.
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..
Несмотря на горесть высказываемых мыслей и чувств, общий тон стихотворения остается сдержанным, стих — гармонически величавым. Александр Сергеевич Пушкин, Пушкин-человек может сомневаться и тосковать; Пушкин-поэт сообщает об этом с величавой грустной умиротворенностью. Конечно, все это печально (не ужасно, не глупо, а только печально), но ведь это так есть. Пушкин настолько благоговит перед простой данностью бытия, что всякое «есть» принимается им со склоненной головой. Такая «примиренность факта» проходит сквозь всё его творчество. В сущности это есть следствие нерушимой веры в беспорочность жизненной сердцевины, веры в неизменную благость ее Творца. Поверхностью, разумом Пушкин может быть отрицателем и пессимистом; оптимизм и ясность души прорываются из глубины его существа вопреки разуму, почти бессознательно, почти незаметно для него самого.
***
Пушкин умел «делать стихи из ничего». Ярче всего проявляется его жизнеутверждение именно в этом умении подглядеть поэзию в самом обыденном, банальном, почти пошлом.
Помещичья деревня:
Под вечер иногда сходилась
Соседей добрая семья,
Нецеремонные друзья.
И потужить, и позлословить,
И посмеяться кой о чем.
Проходит время; между тем
Прикажут Ольге чай готовить,
Там ужин, там и спать пора,
И гости едут со двора.
Петербург:
Всё было тихо; лишь ночные
Перекликались часовые:
Да дрожек отдаленный стук
С Мильонной раздавался вдруг;
Лишь лодка, веслами махая,
Плыла по дремлющей реке…
Еще старосветская деревня:
Тогда роман на старый лад
Займет веселый мой закат.
Не муки тайные злодейства
Я грозно в нем изображу,
Но просто вам перескажу
Преданья русского семейства,
Любви пленительные сны
Да нравы нашей старины.
Перескажу простые речи
Отца иль дяди-старика,
Детей условленные встречи
У старых лип, у ручейка,
Несчастной ревности мученья,
Разлуку, слёзы примиренья,
Поссорю вновь, и наконец
Я поведу их под венец…
***
Может быть, тайна Пушкина не в тоне даже, а в чем-то еще более глубоком: в самой ткани, субстанции его поэзии — в самом его языке. Не только через раскрытие целой гаммы чувств и настроений, оттенков чувств и оттенков настроений в рядовом переживании будничной скучной действительности, но уже через язык эту действительность описывающий, совершается ее подъем в священные высоты чистой поэзии. Обыкновенный прозаический язык в силу полного раскрытия всех таящихся в нем возможностей — его до предела доведенной непринужденности, изобразительной силы, беспорочной чистоты построения, фонетического и ритмического совершенства — этот язык вдруг начинает звучать, как музыка. Вдруг оказывается, что этот повседневный язык и есть «язык богов», язык чистой поэзии. Таким преображением языка (без малейшего отказа от его повседневности, его земной природы). Настолько же, как и преображением описываемой им действительности (без малейшей ее ложной идеализации), земля поднимается в небо, делается раем, царствием Божьим, просветляется, возносится в совершенство.
***
Пушкин не искал оправдания жизни вне ее — в «мирах иных», в небесах, в раю, в бессмертии. Не утверждая и не отрицая, он просто ими не интересовался. Пушкин не оптимист будущего, а оптимист настоящего: смысл жизни в ней самой, жизнь сама по себе такая ценность, что не нуждается в оправдании извне.
***
У Пушкина есть доверие к жизни: «все в порядке», «все как надо». Пушкин чувствовал первозданную прелесть мира, библейское «хорошо».
«И увидел Бог всё, что Он создал, и вот хорошо весьма».
***
В Пушкине (особенно молодом) была дикарская райская безгрешность: но в нем (особенно в зрелые годы) было и что-то большее. В приведенном выше замечании Г. Адамовича очень существенна поправка, что Пушкин был не только лишен, но и свободен от чувства греха. Отсутствие греха — это детская, языческая невинность, не знающая различия между добром и злом. Свобода от греха — христианская свобода, различающая добро и зло, но стоящая вне греха как внешнего запрета, вне библейского «закона».
«Закон и пророки до Иоанна; с сего времени царствие Божие благовествуется и всякий усилием входит в него» (от Луки 16,16).
Пушкин был в какой-то мере причастен этой свободе «царствия Божьего». Каким «усилием» коснулся он его? Только своей бесстрашной, неизменно преданной любовью к жизни. В нем совсем не было боязливого подчинения жизни, он с каждым — как с императором Николаем, так и с самой жизнью — разговаривал как равный с равным. Но в нем не было и боязливой неприязни к жизни. Пушкин был в дружбе с жизнью. Лермонтов — чужестранец в этом мире, Пушкин в нем дома. Лермонтов — гость, Пушкин — хозяин: не гость, но и не работник, не наемник, а наследник, сын.
***
<���Как уже отмечалось,> для Пушкина характерна религиозность внутренняя, «статическая» — в себе завершенная. У него именно потому не было интереса к внешним проявлениям религии, что внутренне он слишком интимно связан с ее первоисточником; он совсем не был богоискателем, именно потому, что ему нечего было искать: он уже был окружен Богом, уже погружен в Него.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: