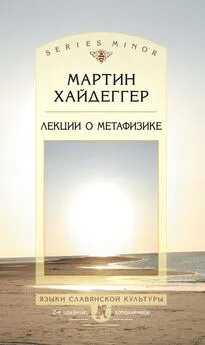Мартин Хайдеггер - Основные понятия метафизики. Мир – Конечность – Одиночество
- Название:Основные понятия метафизики. Мир – Конечность – Одиночество
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мартин Хайдеггер - Основные понятия метафизики. Мир – Конечность – Одиночество краткое содержание
Текст одного из наиболее значительных трудов Мартина Хайдеггера впервые предлагается русскому читателю в полном объеме. Вступительная его часть была опубликована в 1989 году в журнале «Вопросы философии» в совместном переводе В. В. Бибихина и А. В. Ахутина и уже тогда вызвала огромный и совершенно оправданный интерес. Теперь проблемы, которые в начальных главах были только поставлены великим немецким философом, получают подробное рассмотрение и развитие.
Книга возникла на основе лекционного курса, прочитанного Хайдеггером во Фрайбурге в зимнем семестре 1929-30 гг., т. е. в непосредственной связи с тематикой «Бытия и времени основополагающего труда раннего периода его философствования, и представляет особый интерес в двоякой связи. С одной стороны, она содержит развернутый анализ скуки как основополагающего настроения современности; с другой, предлагает столь же детальное определение сущности организма и жизни - в «Бытии и времени» эта проблематика была лишь обозначена Хайдеггером. Перевод книги выполнен А. П. Шурбелевым в постоянном сотрудничестве с А. В. Ахутиным. Ранее опубликованная вступительная часть, над которой работал покойный В. В. Бибихин была оставлена издательством без изменений и принята в качестве ориентира и образца для завершения начатого им труда.
Основные понятия метафизики. Мир – Конечность – Одиночество - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
§ 73. Возвращение в основание возможности целого (das Ganze) структуры высказывания
а) О взаимосвязи углубленного вопроса о возможности «логоса» с ведущей проблемой «мира»
Я еще раз кратко охарактеризую наше предыдущее развертывание проблемы мира: мир есть раскрытость сущего как такового в целом. Мы спрашиваем о «как» для того, чтобы, исходя из этого, проникнуть в феномен мира. «Как» представляет собой нечто отличительное по отношению к тому, для чего раскрыто человеческое вот-бытие — в его отличии от того бытия-открытым-для (das Offensein für), которое характерно для животного. У животного его открытость-для-чего-то — это захваченность чем-то, вобранность во что-то, которая совершается в его объятости отъятием. Упомянутое «как» принадлежит к охватыванию отношением. Измерение и вид этого отношения не ясны, и тем не менее это «как» связано с высказыванием. Учитывая все это, мы — через истолкование природы высказывания — попытались выяснить, каким образом «как» принадлежит к его структуре. Это истолкование, с обращением к Аристотелю, дало такие результаты: все существенные структуры — κατάφασις άπόφασις, άληθεύειν, ψεύδεσθαι —восходят к σύνθεσις и διαίρεσις. Эта загадочная связь исключающих друг друга видов отношения оставалась для нас темной и таинственной. По всей вероятности, здесь мы имеем дело с тем отношением, к которому принадлежит «как». Однако высказывание, будь то κατάφασις или άπόφασις, всегда есть высказывание о чем-то, λόγος τινός (Платон). То, к чему в своей форме относится άπόφασις, есть сущее. В высказывании по-разному речь идет о его бытии, что и выражается в слове «есть». Согласно Аристотелю, в этом заключен и σύνθεσις. Следовательно, и «бытие», и его многообразие, включая и «как», коренятся в этих загадочных σύνθεσις и διαίρεσις. Или, говоря более осторожно, «бытие» и «как» отсылают к одному и тому же источнику. Можно сказать и по-другому: разъяснение существа «как» идет параллельно с вопросом о существе «есть», существе бытия. Оба вопроса служат развертыванию проблемы мира. Теперь это можно пояснить из предыдущего формального анализа понятия мира: раскрытость сущего как такового. В этом лежит раскрытость сущего как сущего, т. е. по отношению к его бытию. «Как», или то отношение, на котором это «как» основывается и которое его образует, делает возможным отношение к чему-то такому, что можно назвать бытием. Вопрос о бытии нельзя ставить без вопроса о существе «как» — и наоборот. Надо поразмыслить о том, какой вопрос при фактическом обсуждении заслуживает предпочтения с методической точки зрения. Прямой вопрос о «как» и том отношении, которое его несет, всегда сразу ставил нас в тупик. Обходной путь через λόγος, привел нас к осознанию многообразия структур (нам не надо вникать, почему это так). Потому теперь уместно продолжить этот путь, тем более что он поставил нас перед вопросом о бытии в форме связки. Сейчас надо, удерживая в поле зрения всю целостность «логос»-структуры, пойти в своем вопросе еще дальше и спросить о ее основании (σύν'θεσις-διαίρεσις) причем задать этот вопрос по путеводной нити того «есть», которое принадлежит данной структуре во всем многообразии своих пока еще неразличаемых значений.
Но можем ли мы в своем вопросе пойти дальше структуры высказывания? Разве высказывание не есть то последнее, за которое уже не выйти? С другой стороны, мы все-таки слышали о составных частях «логоса» (ονομα. ρημα), т. е. о так называемых частях речи. Следовательно, λόγος можно разложить на эти части: субъект, предикат, связка. Конечно, можно, но это разложение как раз и уничтожает целое «логоса», в результате чего в воздухе повисает и связка, не в силах быть тем, что она есть, т. е. связывать. Ведь и согласно Аристотелю она связывает только тогда, когда относится к συνκείμενα. Мы же спрашиваем не об отдельных частях «логоса», а об основании возможности всего «логоса» как такового и делаем это по путеводной нити слова «есть», стоящего в целом «логос» -структуры. Следовательно, наше углубленное вопрошание об основании этой возможности должно быть чем-то иным, непохожим на его разложение и расщепление на составные части. Это вопрошание, скорее, наоборот, должно быть устремлено к тому, чтобы то, о чьем основании и внутренней возможности и спрашивается, удержать как целое. Этот вид углубленного вопрошания, этот способ аналитики Кант во всем его своеобразии увидел тогда, когда осознал всю важность такого понимания. Это тот вид аналитики, который позднее, в неокантианстве — хотя и в каком-то смысле опошлив его — назвали вопросом об истоке. Спрашивать о «логосе» в смысле его истока — значит выявлять то, откуда он возникает не фактически (в том или ином его совершении), а в значении внутренней возможности его существа в целом. Таким образом, рассмотрение истока подразумевает углубленное вопрошание об основании (der Grund) внутренней возможности или — как мы еще коротко говорим — вопрошание об этом основании в смысле проникновения в основу (das Ergründen). Это рассмотрение — не обоснование (das Begründen) в смысле фактического доказывания, но вопрошание о сущностном истоке, позволение возникнуть из самой основы существа, проникновение в основание в смысле выявления основы возможности существования структуры в целом. В своем вопросе мы уходим вглубь, вопрошая об основании внутренней возможности «логоса». Тем самым в своем вопрошании мы устремляемся в измерение внутреннего осуществления «логоса», его сущностного истока. Таким образом, это измерение истока мы должны уже знать заранее. Как мы его находим? По-видимому, только удерживая в поле зрения всю структуру «логоса» и пытаясь увидеть, куда нас отсылает сам внутренний сущностный строй «логоса» в своем указывании на то, на чем он основан и в чем скреплен.
Поэтому мы спрашиваем: где вообще находится λόγος? Мы должны сказать: λόγος — это сущностное поведение человека. Таким образом, основание внутренней возможности «логоса» нам надо испрашивать из сокрытого существа человека. Но и тогда это происходит не так, будто мы просто откуда-то добываем сущностное определение человека и затем применяем его: наоборот, только отталкиваясь от правильно понятой «логос»-структуры и возвращаясь к указанному ею основанию ее возможности, мы можем сказать, как обстоит дело с существом человека. Мы знаем только одно: исходя из «логоса», взятого в единстве его структуры, мы должны вернуться в существо человека. О самом этом существе ничего не было выявлено. У нас есть только тезис, который гласит: человек мирообразующ, и к этому тезису мы обращаемся как к сущностному высказыванию — такому же, как и другое: животное скудомирно. Но сейчас этот тезис нельзя применять: надо как раз развернуть и обосновать его как проблему. В конечном счете то, что мы здесь называем жирообразованием, является также основой внутренней возможности «логоса». Но таково ли оно и, прежде всего, что же оно есть — об этом мы еще не знаем. В конце концов, из природы мирообразования становится понятным то, о чем Аристотель говорит как об основании возможности «апофантического логоса»: речь идет о внятии в той его примечательной «сюнтесис-диайресис»-структуре, которую мы свели воедино как «как»-структуру. Но, если нам не изменяет память, о человеке мы кое-что знаем не только благодаря тезису «человек мирообразующ»: в первой части нашей лекции мы раскрыли природу фундаментального настроения человека, которое позволило нам по-настоящему заглянуть в человеческое вот-бытие вообще. Вопрос в том, не возвращаемся ли мы теперь — когда задаем вопрос об основании внутренней возможности высказывания — в то измерение, к которому нас — с совершенно другой стороны и весьма содержательно — привело истолкование тягостной скуки как фундаментального настроения вот-бытия.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: