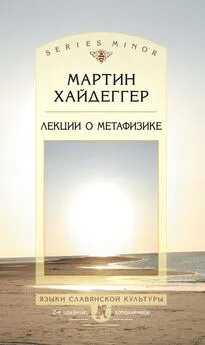Мартин Хайдеггер - Основные понятия метафизики. Мир – Конечность – Одиночество
- Название:Основные понятия метафизики. Мир – Конечность – Одиночество
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мартин Хайдеггер - Основные понятия метафизики. Мир – Конечность – Одиночество краткое содержание
Текст одного из наиболее значительных трудов Мартина Хайдеггера впервые предлагается русскому читателю в полном объеме. Вступительная его часть была опубликована в 1989 году в журнале «Вопросы философии» в совместном переводе В. В. Бибихина и А. В. Ахутина и уже тогда вызвала огромный и совершенно оправданный интерес. Теперь проблемы, которые в начальных главах были только поставлены великим немецким философом, получают подробное рассмотрение и развитие.
Книга возникла на основе лекционного курса, прочитанного Хайдеггером во Фрайбурге в зимнем семестре 1929-30 гг., т. е. в непосредственной связи с тематикой «Бытия и времени основополагающего труда раннего периода его философствования, и представляет особый интерес в двоякой связи. С одной стороны, она содержит развернутый анализ скуки как основополагающего настроения современности; с другой, предлагает столь же детальное определение сущности организма и жизни - в «Бытии и времени» эта проблематика была лишь обозначена Хайдеггером. Перевод книги выполнен А. П. Шурбелевым в постоянном сотрудничестве с А. В. Ахутиным. Ранее опубликованная вступительная часть, над которой работал покойный В. В. Бибихин была оставлена издательством без изменений и принята в качестве ориентира и образца для завершения начатого им труда.
Основные понятия метафизики. Мир – Конечность – Одиночество - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Положение дел прояснится, если мы представим другой случай, подкрепленный определенными опытами. Пчелу помещают перед блюдечком с таким количеством меда, что она не может всосать его сразу. Она начинает всасывать, затем через какое-то время прекращает это делать и летит прочь, покидая еще наличествующий мед. Желая адекватно разъяснить эти инстинктивные действия, мы скажем так: пчела определяет, что ей не справиться со всем имеющимся медом и, почуяв, что его слишком много, прекращает его всасывать. Однако было установлено, что если во время всасывания пчеле осторожно отсечь брюшко, она спокойно продолжает всасывать мед, который вытекает сзади. Это убедительно показывает, что пчела никоим образом не улавливает, что меда слишком много. Она этого не замечает, равно как — что должно было бы чувствоваться еще острее — не замечает отсутствия собственного брюшка. Нет ни того, ни другого, но она продолжает свой инстинктивный «гон» — как раз потому, что не фиксирует наличие еще оставшегося меда. Она просто захвачена, вобрана (hingenommen) кормом. Эта вобранность во что-то (die Hingenommenheit) возможна только там, где есть инстинктивное побудительное влечение к... Однако в этой «гонимости» инстинктом эта вобранность одновременно исключает возможность констатации наличия меда. Именно захваченность кормом не дает животному противопоставить себя ему.
Почему пчела прекращает всасывать мед, когда ее брюшко не отсечено? Мы скажем: потому что ей достаточно. Но почему теперь ей достаточно, а тогда нет? Потому что это «достаточно» возникает тогда, когда брюшко не отсутствует, т. е. когда пчела остается органически целостной. Если же брюшка нет, тогда и «достаточность» не может возникнуть. Но что же она такое? Насыщенность. Именно насыщение и останавливает дальнейший инстинктивный «гон». Поэтому говорят о том, что насыщение препятствует продолжению поглощения. Как это происходит, имеем ли мы здесь дело с рефлекторным процессом, химическим или каким-нибудь еще — все это неясно. Да сейчас это и не важно. Важно понять только одно: поскольку насыщение тормозит инстинкт, оно действительно связано с питанием, но само по себе насыщение никогда — именно никогда — не является констатацией наличия этого пропитания и тем более его обилия. Насыщение — это совершенно определенный вид бытия-гонимым (das Getriebensein), т. е. определенное его торможение, но такое, которое не связано с тем, с чем связан сам инстинктивный «гон» всасывания. Этот «гон» и животное поведение пчелы не управляются констатированием наличия или не-наличия того, к чему ее гонит ее же «гон» и с чем связано ее животное поведение всасывания. Это означает: всасывание меда на цветке не есть самоотношение пчелы к этому цветку как к чему-то наличному или не-наличному. Мы утверждаем: «гон» прекратился по причине возникшего торможения (инстинкт и растормаживание). Одновременно это означает, что нельзя говорить просто о прекращении «гона»: на самом деле «гонимость» бытия-способным перенаправляется в другой инстинкт. Инстинктивный «гон» — это не фиксирующее само-направление в сторону объективно наличествующих вещей, а животное поведение как объятие отъятием. «Гон» инстинкта есть такое объятие животным поведением. Этим, однако, не отрицается, что животному поведению принадлежит нечто вроде устремленности к аромату и меду, принадлежит отношение-к-чему-то — нет только констатирующего само-направления к нему, а точнее говоря, нет внятия (das Vernehmen) меда как чего-то наличного: есть своеобразная объятость отъятостью, которая тем не менее имеет с чем-то связь. Инстинкт объят. Чем? Продолжающееся всасывание показывает: ароматом и медом. Но, может быть, когда оно прекращается, прекращается и объятость? Никоим образом, просто инстинктивный «гон» перенаправляется в обратный полет в улей. Этот полет так же «объят», как и всасывание: просто это другой способ объятости, т. е. перед нами снова животное поведение пчелы.
Пока нам надо удовлетвориться указанием на то, как пчела перенаправляет инстинкт всасывания в гонимость обратно в улей, каким образом она — как мы привыкли говорить — ориентируется. Строго говоря, ориентация есть только там, где пространство раскрыто как таковое и таким образом дана возможность различения местностей и определяемых в них мест. Хотя мы констатируем, что, возвращаясь с луга в улей, пчела пролетает какое-то пространство, вопрос в том, вскрывает ли она как пчела — в своем поведении возвращения домой — пространство как пространство и пролетает ли его именно как пространство своего полета. Скажут — пока не в силах ничего пояснить далее — что перелет пчелы, конечно, отличается, например, от перелета снаряда. Проблему животного пространства, проблему того, есть ли у животного вообще пространство как таковое, конечно же, нельзя поднимать изолированно. Главное, однако, в том что для этого вопроса надо найти правильную основу и направление, потому что, найдя основу общего сущностного определения животности, можно спрашивать о возможном отношении животного к пространству. Мы не только констатируем этот полет, но и то, что пчела может возвращаться домой, констатируем возможность возвращения домой. Здесь — в связи с нижеследующим — надо остановиться подробнее.
Способность отыскивать дорогу назад, вообще способность ориентации, при всех оговорках на этот счет, вновь и вновь вызывает наше изумление, когда например, речь заходит о перелетных птицах или чутье у собак. Однако если мы вернемся к нашей пчеле и посмотрим, как выглядит ее родина, мы увидим, что это ряд ульев. Обычно пчеловод раскрашивает их в разные цвета, чтобы пчелы могли безошибочно отыскать матку. Значит, скажут нам, пчелы ориентируются по цвету. На самом деле это верно только отчасти, потому что они не различают голубой, багряный и фиолетовый цвета, а также красный и черный. Следовательно, пчела различает лишь определенные цвета. Если названные цвета соседствуют, пчела ошибается в полете, хотя и не всегда. Ведь пчелы — как было установлено — ориентируются и по аромату, который сами и распространяют и благодаря которому отличают один рой от другого, а точнее говоря, находят тот, которому принадлежат. Можно видеть, как пчелы, задрав брюшко, роятся вокруг летка своего улья, обволакивая его своим ароматом. Тем не менее при возвращении они нередко теряют ориентацию, и это показывают не только эксперименты, но и тот факт, что трупы пчел валяются у входа в чужой улей: непрошенных гостей уничтожили его стражи.
Все это свидетельствует лишь об одном: при возвращении домой пчелы ориентируются по цвету и аромату. Однако если вспомнить, что пчелиный рой улетает от улья на несколько километров — правда, не более трех-четырех — и пчелы все-таки находят дорогу домой, станет ясно, что это происходит не благодаря окраске ульев или аромату на входе в них. При возвращении домой играет роль нечто другое, причем играет в первую очередь, о чем свидетельствуют опыты Бете, разъяснить которые смог только Радл в своих «Исследованиях о фототропизме животных» (1905 г.).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: