Александр Фефилов - Введение в когитологию: учебное пособие
- Название:Введение в когитологию: учебное пособие
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9765-0805-7, 978-5-02-034785-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Фефилов - Введение в когитологию: учебное пособие краткое содержание
Учебное пособие нацеливает на изучение основных понятий о языке, сформировавшихся в недрах философии и теоретической лингвистики. Основная цель курса – ориентация начинающих и продвинутых гуманитариев на творческое переосмысление общих методологических проблем в исследовании языка и речи, на усвоение основ когитологии как нового направления, зародившегося на стыке философии и лингвистики.
Для студентов и бакалавров гуманитарных специальностей.
Введение в когитологию: учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
ЯМ (2) – зона языкового мышления;
КС – концептуальное сознание;
КС (3) – незадействованная (не участвующая в интеграции) зона концептуального сознания;
КС (4–5—2) – зона распространения концептуального сознания; это процессы осознания использующихся языковых средств (ЯМ2), а также осознания способов их использования; это осознание характера взаимодействия ЯМ и КМ; в широком смысле – это процессы концептуализации, или понятийного уподобления языковой системы;
КМ – концептуальное мышление;
КМ (4) – зона концептуального мышления;
РМ – речевое мышление (результат взаимодействия языкового и концептуального мышления; актуализированные в линейных отношениях единицы сознания).
Речевое мышление – это экстериоризация (вынаруживание) мысли в речевой форме. Если говорить о соотношении мысли и речиименно в плане экстериоризации, то здесь возможны лишь три варианта допущений.
1. Мысль перерастает во внутреннюю, фрагментарную речь и далее при необходимости оформляется в виде внешней, графической или звуковой речи:
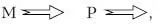
где Мысль и Речь порождаются последовательно, поочередно.
2. Мысль и речь формируются синхронно, одновременно, параллельно:

3. В процессе становления речь накладывается на мысль с «опозданием», через некоторое время:

Проблема довербального мышления активно обсуждалась многими лингвистами в разное время и по разному поводу, ср. «Мышление в своем движении опережает язык, иначе вообще был бы невозможен прогресс человечества. В мышлении создается образ, а в языке нет соответствующего слова для его обозначения (еще доказательство возможности существования в мысли чего-то, что не одето словом)» (Ардентов Б.П., цит. по: [Серебренников, 48, 103]).
Вероятнее всего, что в плане экстериоризации формирование мысли говорящим, ее конечный результат, а именно, осознание, понимание, предшествует процессу ее вербализации («оречевления»).
Охват и глубина мысли (КМ) в интериоризационном плане находятся в синхронной зависимости от выбора языковых и речевых средств. Варьируется объем и качество вербализуемых мыслительных понятий.
Если выбор вербальных средств начинался с «материи» языка и речи – звука, интонации, формальной структуры, то извлечение мыслительных единиц осуществляется посредством идеальной стороны речи – совокупных семантических признаков, каждый из которых «притягивает» к себе соответствующий мыслительный компонент.
Однако динамическое отношение речи к мысли не следует понимать упрощенно как извлечение соответствующей мысли из концептуального сознания. Не нужно забывать, что концептуальное сознание само находится в движении. Очевидно, что речевое мышление – это креативный процесс. Семантические признаки речевого выражения сами по себе не являются структурно и контенсионально предельными, самодостаточными. От этой иллюзии следует отказаться раз и навсегда.
1.5. Единицы языка и единицы анализа
В методологическом аспекте чрезвычайно важно различать единицы онтологического и операционного уровня. Известный советский лингвист В.М. Солнцев отмечал в этой связи: «Уровни языка в онтологическом смысле следует отличать от «уровня анализа» языка – фаз, или этапов, рассмотрения языка. В лингвистической практике онтологический уровень языка и «уровень анализа» (операционный) нередко смешиваются, хотя между ними нет прямого соответствия» [30, 539].
Как уже отмечалось выше, традиционно в лингвистике единицы естественного языка выступают в роли объекта анализа и в роли операционных единиц лингвистического исследования одновременно. Говоря проще, слова анализируются с помощью слов. Слова естественного языка обычно представляются в моделях языковых знаков. Об опасности подмены в процессе анализа языкового объекта метаязыковым объектом мы уже говорили. Целесообразно более подробно осветить здесь операционные возможности знаковых моделей языка.
Проблема знака и знакового значения в лингвистике имеет давнюю историю. Еще в 1660 году в «Грамматике общей и рациональной» («Грамматике Пор-Рояль») было дано оригинальное толкование понятия словесного знака, актуальность которого сохраняется по сей день, ср.: «Слова можно определить как членораздельные звуки, которые используются людьми как знаки для обозначения мыслей. Поэтому трудно постичь различные виды значений, заключенных в словах, не постигнув, прежде всего того, что происходит в наших мыслях, ибо слова и были созданы лишь для передачи и постижения мыслей» [5, 90]. Из определения вытекает, что слово это знак мысли, а не знак предмета действительности. Мысль, как представляется, – это не зеркальное отражение предмета, поскольку носителем ее является человек, с присущим ему субъективно-объективным видением мира. Отсюда следует, что в словесном значении присутствуют два начала – субъективное и объективное.
Авторы «Грамматики» говорят в этой связи соответственно о «смутных» и «ясных» значениях слова. Так, например, имена существительные имеют «ясное» значение и «смутное» (= коннотативное) значение, ср. краснота (красный цвет – ясное значение; «предмет», который обладает этим цветом, – смутное значение, поскольку на самом деле не является предметом; слово в целом обозначает качество какого-то предмета, а не предмет) [ср. там же, 94–95]. Сами по себе знаки языка имеют звуковую (голосовую) и графическую природу. Однако знаки языка мы ассоциируем не только по их внешней природе проявления, но и по их отношению к обозначаемым мыслям. Таким образом, языковые знаки мы рассматриваем с двух сторон: «Первая – то, чем они являются по своей природе, а именно как звуки и буквы. Вторая – их значение, т. е. способ, каким люди используют их для означения своих мыслей» [там же, 71].
Еще более поразительную по точности характеристику знака дают мыслители Пор-Рояля А. Арно и П. Николь в книге, посвященной логике и искусству мышления, ср.: «Знак заключает в себе, таким образом, две идеи: идею вещи представляющей и идею вещи представляемой, и сущность его состоит в том, чтобы вызывать вторую посредством первой» [6, 46]. При этом авторы неоднократно оговаривают разницу между знаком и тем, что этот знак обозначает, ср. «Всякий знак предполагает различие между представляющей вещью и той, которая ею представлена» [6, 47].
Прошло более ста лет, и немецкий философ Г.В.Ф. Гегель предложил несколько иное толкование данной проблемы, ср. «Знак – это вещь, обладающая значением, которое не является, однако, ее собственной сущностьюи к которому эта вещь относится, следовательно, как чужая. Но, кроме того, она обладает также и своим собственным значением, которое не связано с природой самого предмета, обозначенного этой вещью» ([14, 20]; подчеркнуто мной – А.Ф.).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:










