И. Кабанова - Современная литературная теория. Антология
- Название:Современная литературная теория. Антология
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89349-623-9, 978-5-02-033001-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
И. Кабанова - Современная литературная теория. Антология краткое содержание
В книге представлены ключевые эссе западных теоретиков литературы 1960 —1980-х годов, дающие представление о становлении и основных подходах современной литературной теории. Классические работы Дерриды, Бодрийяра, Лиотара, де Мана, Яусса, Изера и др. вводят в проблематику современного гуманитарного знания, знакомят с основными положениями постструктурализма и психоаналитической школы, рецептивной эстетики и постмодернизма, неомарксизма и феминизма. Книга может использоваться как антология для курсов по теории литературы, современной философии, критической теории.
Для преподавателей и студентов гуманитарных специальностей, литературоведов, культурологов.
Современная литературная теория. Антология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Покинув наши собственные маргинальные территории ради места в пустыне постструктуралистской критики, не рискуют ли черные критики и феминистки утратить свою оригинальность и перейти к подражанию, не сменят ли они свои собственные критические модели на Универсальную Теорию, как называет ее Лиза Жарден? Если мы не согласны с мыслью, что судить о гендере дано только женщине, а судить о расе – только чернокожим, то какова должна быть отличительная идиома и роль черной или феминистской критики, и как мы определим позиции, с которых мы ведем свою критику? Можем ли мы пойти на компромиссы, необходимые для того, чтобы влиться в основное русло, и при этом по-прежнему работать на наши собственные цели? Или мечта о другой критике, которая будет одновременно подрывной и самоутверждающейся, – самая утопичная из всех культурных фантазий?
[Опущена глава об афро-американской критической революции.]
Феминистская критическая революция
Генеалогия черной критики и феминистской критики во многих отношениях поразительно сходны. Чтобы подчеркнуть параллели между ними и ради облегчения труда читателя, я выделила и дала разные названия отдельным этапам и способам, которые в совокупности представляют сложную целостность феминистской критики. Ни один из взаимопереплетенных подходов феминизма не был вытеснен или дискредитирован, и каждый претерпел значительные изменения благодаря оживленной внутренней полемике.
До возникновения движения за женское равноправие критика написанных женщинами произведений имела форму андрогинной 1поэтики, отрицавшей уникальность женского литературного сознания и выдвигавшей единственный универсальный стандарт критических оценок, которым женщины-писательницы должны были соответствовать. Женское движение конца 60-х гг. вызвало к жизни и феминистскую критику мужской культуры, и женскую эстетику, утверждавшую женскую культуру. К середине 70-х академическая феминистская критика, действуя заодно с междисциплинарными феминистскими исследованиями, вступила в новую фазу гинокритики, или изучения женского письма. Под воздействием европейской теории литературы и европейского феминизма в конце 70-х гг. важной составляющей стал гинесис, или пост-структуралистская феминистская критика, имеющая дело с «женским началом» в философии, языке и психоанализе. Во второй половине 80-х мы наблюдаем подъем гендерной теории, сопоставительного изучения половых различий.
Андрогинная поэтика до сих пор имеет множество приверженцев среди женщин-писательниц, что создает конфликт между писателями и критиками, раздуваемый в средствах массовой информации. Многие феминистские критики, и я в том числе, высказали озабоченность, когда Гейл Годвин и Синтия Озик атаковали «Нортоновскую антологию женской литературы», утверждая, что творческое воображение не несет половых различий и что концепция женской литературной традиции оскорбительна для тех писательниц, которые, как Годвин, считают себя ученицами Джозефа Конрада.
Тем не менее андрогинная поэтика, которая может быть или неосознанным женоненавистничеством, требующим фальшивой «универсальности» от женского письма, или формой женской ненависти к самой себе, затрагивает по-настоящему серьезные сквозные вопросы феминистской критики. Позиции андрогинной поэтики были раньше всего сформулированы в «Мыслях о женщинах» (1969) Мэри Эллман, которая остроумно показала пагубные последствия мышления сексуальными аналогиями; а также Кэролин Хейльбрун в книге «К признанию андрогинности» (1973), где говорится, что «наше спасение – в отходе от противостояния полов и в выходе из тюрьмы гендера». Из современных американских писательниц эту позицию убедительней всех представляет Джойс Кэрол Оутс. В эссе, озаглавленном «(Женщина) Писатель: теория и практика» (1986), Оутс выступает против категорий «женщина» и «гендер» в искусстве: «Содержание определяется культурой, а не гендером. А воображение, само по себе лишенное гендера, позволяет нам все».
Начиная с 70-х гг., большинство феминистских критиков, признавая необходимость для писателя освободиться от любых ярлыков, отвергают концепцию бесполого «воображения» и с разных точек зрения доказывают, что воображение подвластно бессознательным структурам и ограничениям половой принадлежности. Их аргументы подчеркивают невозможность отделить воображение от социально, сексуально и исторически обусловленного «я». Так, например, Сандра Гилберт разумно настаивает на том, что
написанное есть продукт, сознательный или бессознательный, целостной личности... Если автор – женщина, которая воспитана как женщина, – смею утверждать, что очень редкие биологически аномальные особи женского пола не прошли тем не менее через воспитание женственности – как можно оторвать ее сексуальную принадлежность от ее литературной энергии? Даже отрицание ее женственности будет важно для понимания ее эстетического творчества.
Более последовательная феминистская критика бесполости «воображения» женщин-писательниц дается в лакановском психоанализе, который описывает раздвоение субъекта-женщины в языке. В психолингвистическом мире, структурированном вокруг отношений отец —сын, построенном по мужской логике, женщина – пустота или молчание, пол невидимый и неслышимый. Поэтому в противоположность «чисто писательским» проблемам андрогинной поэтики большинство критиков-феминистов настаивают, что оспорить патриархатные предрассудки против женщин можно не отрицанием половых различий, но отказом от гендерных иерархий. Следует бороться не с половыми различиями, а с их значениями в патриархатной идеологии – с разделением, подавлением, неравенством, внутренним чувством неполноценности, воспитываемым у женщин.
Первый прорыв в андрогинной поэтике произошел, когда принадлежность к женскому полу была провозглашена позитивным фактором для литературы. Женская эстетика возникла на заре движения за женское равноправие как радикальная реакция на прошлое, когда целью женской литературы полагался гладкий переход к нейтральной, «универсальной» эстетике. Вместо этого женская эстетика заявила, что женское письмо выражает особенное женское сознание, что оно представляет собой самостоятельную и последовательную литературную традицию, что писательница, которая отрицает или ограничивает свое женское «я», наносит ущерб своему искусству. Одновременно феминистская критика патриархальной литературы исследовала женоненавистничество литературной практики: стереотипы женских литературных образов как ангелов или демонов, текстуальное подавление женщин в классической и массовой мужской литературе, исключение женщин из истории литературы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
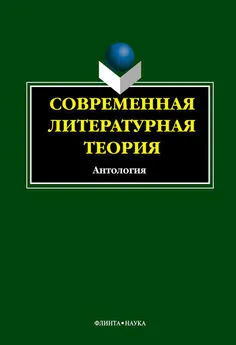


![Штефан Мариан - Современный румынский детектив [Антология]](/books/356046/shtefan-marian-sovremennyj-rumynskij-detektiv-anto.webp)
![Эдуард Фикер - Современный чехословацкий детектив [Антология. 1982 г.]](/books/529962/eduard-fiker-sovremennyj-chehoslovackij-detektiv-a.webp)

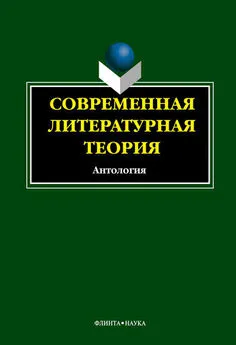
![Мо Янь - Папапа. Современная китайская проза [антология]](/books/1074358/mo-yan-papapa-sovremennaya-kitajskaya-proza-antolo.webp)
![Дун Си - Слова, упавшие в воду. Современная поэзия Гуанси [антология]](/books/1090707/dun-si-slova-upavshie-v-vodu-sovremennaya-poeziya-g.webp)
