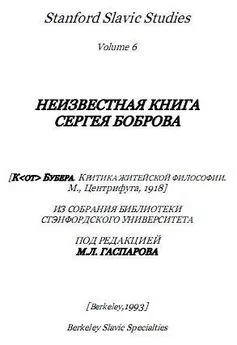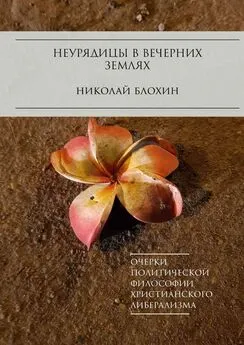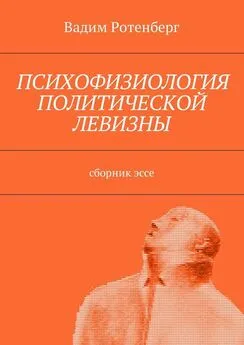Борис Капустин - Критика политической философии: Избранные эссе
- Название:Критика политической философии: Избранные эссе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Территория будущего»19b49327-57d0-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91129-059-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Капустин - Критика политической философии: Избранные эссе краткое содержание
В книге собраны статьи по актуальным вопросам политической теории, которые находятся в центре дискуссий отечественных и зарубежных философов и обществоведов. Автор книги предпринимает попытку переосмысления таких категорий политической философии, как гражданское общество, цивилизация, политическое насилие, революция, национализм. В историко-философских статьях сборника исследуются генезис и пути развития основных идейных течений современности, прежде всего – либерализма. Особое место занимает цикл эссе, посвященных теоретическим проблемам морали и моральному измерению политической жизни.
Книга имеет полемический характер и предназначена всем, кто стремится понять политику как нечто более возвышенное и трагическое, чем пиар, политтехнологии и, по выражению Гарольда Лассвелла, определение того, «кто получит что, когда и как».
Критика политической философии: Избранные эссе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Третье: в условиях современности практика, называемая «гражданским обществом», осуществлялась в самых разных организационных формах, зависящих от обстоятельств «места и времени», – от городских собраний периода Американской революции, воспетых Ханной Арендт, до гандистского движения сатьяграхи, «народных фронтов» Центральной и Восточной Европы, участвовавших в демонтаже коммунизма, и движения анти– или альтерглобализма. Нет и не может быть единого организационного шаблона, по которому строится «правильное» гражданское общество. Популярное ныне сведение гражданского общества к совокупности (или сети) неправительственных и некоммерческих организаций есть лишь либеральное выражение глобального упадка гражданского общества и его неспособности осуществлять ту определяющую его функцию, которую мы зафиксировали в предыдущем втором пункте наших рассуждений.
Четвертое: общее благо, во имя которого конституируется и действует гражданское общество, не является чем-то самоочевидным и открываемым «естественным разумом» человека, как полагали теоретики естественного права. В условиях (веберовского) «расколдования мира», с одной стороны, а с другой – естественности интересов частных лиц, которые лишают общие идеалы и «идентичности» ореола высших и абсолютных целей и подчиняют их вопросу «для чего?», общее благо постоянно превращается в предмет полемики и конфликтов [48]. Из этого следует, что общее благо, отстаиваемое гражданским обществом, есть его нравственно-политический проект, который не является универсальным и «общезначимым». Он сталкивается с альтернативными проектами других сил и утверждает себя в качестве общего блага в результате их вытеснения или кооптации в логике того, что Антонио Грамши называл (культурно-политической) гегемонией [49]. Если носителями таких альтернативных проектов также выступают «спонтанно» организующиеся низовые движения, то мы будем иметь ситуацию столкновения нескольких разновидностей гражданского общества. Она вовсе не является гипотетической. К примеру, коллапс Веймарской республики и происходил в условиях конфронтации разных видов гражданского общества, одним из которых, причем победоносным, оказалось именно нацистское гражданское общество [50].
Уже этого примера достаточно для того, чтобы отказаться от безоговорочного отождествления гражданского общества со всем нравственно «хорошим» – свободой, равенством, солидарностью, правами человека и т. д. Такое отождествление есть не более чем идеологический жест, на место которого теория должна поставить конкретный анализ деятельности гражданского общества в конкретных исторических ситуациях, который только и может раскрыть политико-социологическую реальность гражданского общества. Впрочем, то же самое можно сказать о любых других категориях политической мысли – демократии, авторитаризме, государстве, власти и т. д., которые лишь метафизический подход к политике наделяет неизменными «хорошими» или «плохими» сущностями, тогда как все их «сущности» сугубо историчны и контекстуальны.
3. гражданское общество как утопия
Однако частью политико-социологической реальности гражданского общества (если оно заслуживает этого названия) является его устремленность по ту сторону статус-кво. У него обязательно должен быть «утопический горизонт» (Хабермас), то, что Джин Коэн и Эндрю Арато определяли как «утопию гражданского общества», правда, связывая ее только с нормативно «хорошим» – «свободной, добровольной, демократически структурированной и коммуникативно скоординированной ассоциацией», утопию, которая служит для «критической мысли» регулятивной идеей посредством ее сцепления с другой идеей – «создания институтов, способных обеспечить полную реализацию потенциала коммуникативного воспроизводства современного жизненного мира» [51].
Но что понимается под таким «сцеплением»? Означает ли оно, что мы при помощи утопии гражданского общества как «добровольной ассоциации» всего лишь критически оцениваем существующие институты и призываем их совершенствовать в соответствии с нашим идеалом? Но что может дать такой подход для познания общества, не говоря уже о его преобразовании? Не удивительно, что его критики настаивают на строгом различении нормативных (подобных описанному выше) и собственно социологических подходов к гражданскому обществу, имея в виду, что лишь последние могут иметь научно-теоретическое значение [52]. Такое различение приводит исследователя позитивистской ориентации к выводу о том, что гражданское общество должно быть нейтральным понятием, не содержащим ценности (вроде свободы, равенства и т. д.). Оно может лишь указывать место в социальном пространстве, где разворачивается борьба между силами, которые руководствуются различными ценностями, но это никак не свидетельствует о том, что данное место, т. е. «гражданское общество», является обителью свободы, равенства, солидарности и всего прочего, что ему атрибутирует нормативный подход [53].
Но «сцепление», о котором ведут речь сторонники нормативного подхода, можно понимать совсем иначе – в качестве практик, благодаря которым утопии переходят в действительность и которые воодушевляются такими утопиями. Конечно, такой «переход» не следует понимать в смысле воплощения утопий в действительности (история совсем не знает таких воплощений). Речь здесь может идти только о роли утопий в качестве мотива (одного из мотивов) практической деятельности людей, способной «трансцендентировать» статус-кво [54]. Но эта роль может быть решающей в том смысле, что без нее политическая практика была бы не в состоянии перешагнуть границы наличного в данной исторической ситуации бытия. Строящаяся на учете этого теория гражданского общества тоже будет нормативной – ведь ее предметом останутся идеалы, утопии, должное. Но такая нормативная теория не просто переходит в социологию политического действия (включающую описание его институциональной среды), но обретает в последней свою полноту и завершенность.
Эти два различных понимания «утопического горизонта» гражданского общества связаны с разными типами утопий, которые Джудит Шкляр в своем классическом эссе обозначает как «старые» и «новые» или «меланхолические и «ностальгические» [55]. Первые выражают «меланхолию» по невозможному в абсолютном смысле: утопическое «нигде» относится не только к географическому пространству, но и к историческому времени, поскольку время (еще или уже) не рассматривается в качестве определения бытия людей, каким оно становится в темпорализованном бытии у, скажем, Гегеля или (иным образом) Хайдеггера. Такова, к примеру, платоновская утопия идеального государства, «которая. не служит для того, чтобы направлять какое-либо действие, [она]. приносит удовлетворение сама по себе», не ища ничего сверх себя [56].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: