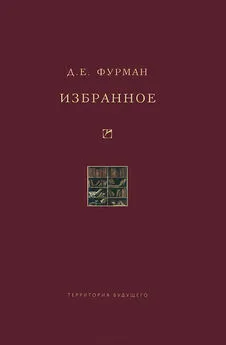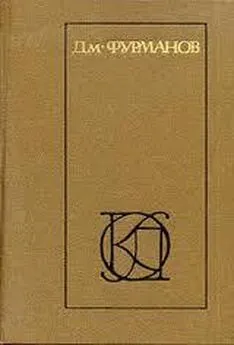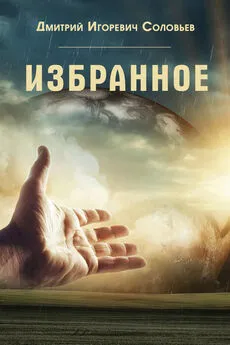Дмитрий Фурман - Избранное
- Название:Избранное
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Территория будущего»19b49327-57d0-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91129-068-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Фурман - Избранное краткое содержание
Вошедшие в настоящий сборник исследования выдающегося историка и религиоведа Д. Е. Фурмана (1943–2011) охватывают разные страны и эпохи. Их автор убежден в многовариантности исторического выбора. В его работах раскрывается общее и особенное, закономерное и случайное в историческом развитии, воздействие этих факторов на политические процессы сегодняшнего дня. Сложнейшая задача – выявление культурных и социальных следствий различных религий, влияния «культурного кода» и конкретно-исторического выбора того или иного народа на его развитие – по мнению Д. Фурмана, не может быть решена окончательно, но стремиться приблизиться к пониманию проблемы – необходимо, ибо «прошлое живет с нами, наши чувства и мысли в немалой степени определены событиями не только недавними, но и тысячелетней давности».
Избранное - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Конфуцианское «Писание», как и христианское, имеет сложный состав и сложную историю. Запись входящих в него книг относится к глубокой древности; начало их канонизации было положено во времена Хань (II век до н. э.), но в окончательном виде канон оформился поздно, в эпоху Суй (X–XIII века н. э.). Этот канон состоит из 13 книг. Важнейшие его части – «Четверокнижие» («Сы шу»), включающее трактаты «Лунь-юй» и «Мэн-цзы» (собрания бесед и поучений Конфуция и Мэн-цзы) и небольшие философские трактаты – «Дасюэ» и «Чжун-юн», и «Пятикнижие» («У цзин»), куда входили составленный и отредактированный самим Конфуцием сборник народных песен «Ши цзин», книга исторических преданий «Шу цзин», составленная Конфуцием хроника царства Лу «Чунь цю», книга ритуалов «Ли цзи» и древняя (и неконфуцианская в основе) книга гаданий «И цзин».
И хотя конфуцианское «Писание» – не фиксация «откровения», это слова человека, а не бога, функции его тождественны функциям Библии. Это совершенно особая литература, ценность которой несопоставима с ценностью всей прочей реально существующей и могущей появиться литературы. Это воплощение абсолютной мудрости «совершенномудрых». Здесь очень наглядно проявляются общие закономерности религиозно-догматической идеологии, которые нередко действуют независимо от ее содержания и конкретной проповеди.
Механизм осуществляемой организацией идеологов переработки религиозно-догматической идеологии один и тот же – это переинтерпретация «Писания» через его комментирование. Иного механизма быть не может, ибо «Писание» мыслится как истина полная (к которой, следовательно, нельзя добавлять новые истины) и как истина абсолютная, т. е. такая, которую нельзя изменять, а можно лишь уяснять. Комментирование может быть самым разным – историческим, филологическим, логическим (примирением логических противоречий «писания») и, наконец, аллегорическим. При этом само благоговейное отношение к букве «Писания» является источником искажения его духа, ибо если «Писание» никогда не ошибается, а некоторые его места все-таки для позднейшего сознания совершенно неприемлемы, значит, эти места – аллегория, за ними скрывается некий тайный смысл. Такой подход открывает дорогу для полного произвола – аллегориями объявляется все, что неприемлемо и мешает пропаганде. Примерами могут служить толкования двух произведений, включенных в каноны исключительно в силу их популярности. В христианском «Писании» – это древнееврейская любовная лирика «Песни Песней», трактуемая как аллегория отношений Христа и церкви, в конфуцианском – это сборник народной поэзии «Ши цзин», любовная лирика которого трактуется как аллегория отношений старшего и младшего, государя и подданного.
И в конфуцианстве, и в христианстве бурный рост комментариев как бы оттесняет на задний план сам текст «Писания». Комментарии создают как бы ограду вокруг него, и оно в результате воспринимается лишь через их призму. Но поскольку признанные комментарии считаются единственно верным толкованием (в христианстве они мыслятся подсказанными «Святым Духом», т. е. как бы становятся вторичным «откровением»), то и они со временем оказываются «священными» и догматическими. Так религиозно-догматическое сознание порождает своего рода «табулирование», которое из центра – «Писания» – распространяется на все связанное с ним: на его запись, язык записи, комментарии. «Писание» как бы «заражает» своей святостью все, что имеет к нему отношение. Общее направление переработки первоначального учения через комментирование – на создание максимально многогранной системы, способной охватить максимально широкие слои населения и сферы жизни и найти ответ на все имеющиеся и возможные запросы общества, – складывается из ряда частных направлений.
Обычно «Писание» в силу ряда причин противоречиво. Во-первых, и конфуцианское, и христианское «Писания» гетерогенны. В них включались книги, составленные в разное время и (особенно это относится к христианскому Писанию) людьми очень разных идеологий. Во-вторых, основатель, от которого абсолютная истина исходит (к Иисусу это относится в значительно большей степени, чем к Конфуцию), настолько уверен в своей правоте (иначе он не мог бы исполнить своей роли) и нечеловеческом происхождении своих убеждений, что вещает, а не рассуждает логически. Основатель – человек большой интуиции, но не жесткой логики, и слова его, производя сильное эмоциональное впечатление, часто представляют собой смутные образы, логической обработке не поддающиеся. Это, особенно на ранних этапах развития религии, когда царит не разум, а эмоция, весьма способствует ее распространению, ибо чем таинственнее слова, тем более глубокая мудрость кажется в них заключенной, тем скорее они – не от человека, а от бога. Это имеет и еще одно преимущество: чем более неопределенны в логическом отношении слова основателя, тем более разный смысл им можно давать впоследствии, в процессе комментирования, так что первоначальная логическая неопределенность предоставляет большие возможности для позднейших комментаторов и идеологов.
По мере роста популярности учения горячность и энтузиазм обычно идут на убыль, им на смену приходит рефлексия. Люди размышляют, сталкиваются с противоречиями и неясностью «Писания». И тут возникают большие опасности. Признать, что канонический текст можно толковать и так и эдак, нельзя, ибо верующий, обнаруживающий в «Писании» явное противоречие, или утрачивает веру, или создает свою собственную интерпретацию, примиряющую противоречия, причем таких интерпретаций одного и того же текста может быть много. К тому же необходимо учесть, что на направление и формы интерпретации оказывает свое немалое воздействие борьба социальных и экономических интересов различных слоев общества. В результате может возникнуть много конкурирующих идеологий-интерпретаций, которые ослабляют друг друга в конкурентной борьбе. При этом есть угроза, что единая истина утратится, а вера пойдет на убыль, ибо истина – одна, а если идеологи противоречат друг другу, значит, истины у них нет.
Для построения единой и непротиворечивой системы, основанной на разрешении противоречий «Писания», необходима организация, обладающая идеологической дисциплиной и способная, когда мысль наталкивается на противоречие, разрешить его общеобязательным для членов организации догматическим способом. Организация обеспечивает упорядоченный, единый процесс формализации. Такой процесс формализации закономерен, очевидно, для любой религиозно-догматической идеологии [106]. Происходил он и в христианстве, и в конфуцианстве. Но в связи с отличием первоначального содержания этих идеологий совершался он по-разному.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: