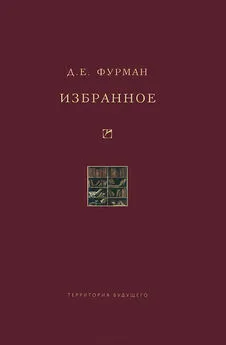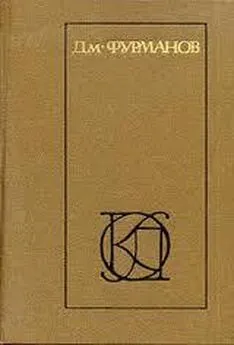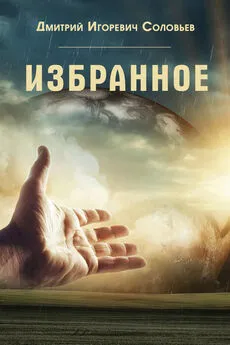Дмитрий Фурман - Избранное
- Название:Избранное
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Территория будущего»19b49327-57d0-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91129-068-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Фурман - Избранное краткое содержание
Вошедшие в настоящий сборник исследования выдающегося историка и религиоведа Д. Е. Фурмана (1943–2011) охватывают разные страны и эпохи. Их автор убежден в многовариантности исторического выбора. В его работах раскрывается общее и особенное, закономерное и случайное в историческом развитии, воздействие этих факторов на политические процессы сегодняшнего дня. Сложнейшая задача – выявление культурных и социальных следствий различных религий, влияния «культурного кода» и конкретно-исторического выбора того или иного народа на его развитие – по мнению Д. Фурмана, не может быть решена окончательно, но стремиться приблизиться к пониманию проблемы – необходимо, ибо «прошлое живет с нами, наши чувства и мысли в немалой степени определены событиями не только недавними, но и тысячелетней давности».
Избранное - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Для ответа на эти вопросы вновь обратимся к особенностям сионистского национализма, а в конечном счете – и к особенностям евреев как своеобразной этнической общности, и к иудаизму как религии.
Иудаизм – этническая религия, постулирующая сакральное значение происхождения «от Авраама, Исаака и Иакова», – на протяжении всей истории еврейской «диаспоры» был основной и даже единственной силой, сплачивающей разрозненные еврейские общины и изолирующей их от нееврейских, неиудаистских соседей. Ортодоксальный средневековый еврей, живущий среди христиан или мусульман, ощущал себя среди чужих, «в изгнании», но, приехав, скажем, из Франции в Египет и попав там в еврейскую общину, чувствовал, что попал к «братьям». Однако ни о каком культурном единстве евреев арабских стран, говорящих на арабском, восточноевропейских, говоривших на идише, немецких и бухарских евреев, кроме единства, создававшегося религией, говорить невозможно, так же как без религии быстро истончаются и исчезают перегородки, отделяющие евреев от народов, среди которых они живут. (Шолом Алейхем хорошо понятен русским и украинцам, но плохо – евреям Марокко.) Поэтому процесс секуляризации для еврейских общин, в отличие от народов со своей территорией, государственностью и культурным единством, не основанным на религии, означает ускоренную ассимиляцию. А отсюда своеобразие еврейского национализма – сионизма и его отношения к религии – иудаизму.
Сионизм, явившийся националистической реакцией, с одной стороны, на ассимиляцию и культурный распад, с другой стороны, на возникший после эмансипации евреев взрыв антисемитизма, выдвинул идею «нормализации» положения евреев, их превращения в «нормальный народ» на своей «исторической родине». Это чисто «секулярная» по своей природе идея, объективно глубоко враждебная ортодоксальному иудаизму, ни о какой «нормализации» не помышляющему и связывающему возвращение в Палестину с вмешательством Бога в ход истории и началом мессианской эры. Отсюда – сильные антиклерикальные тенденции сионизма, видящего в иудаизме религию пассивности, религию гетто, «ненормального» народа [161], и склонного противопоставлять Библию, понимаемую скорее как национальный эпос, Талмуду [162]. (И отсюда же – сильная антисионистская тенденция в ортодоксии, хотя часть ортодоксов и стала считать, что, может быть, мессия придет после возвращения евреев в Палестину и их покаяния и возвращения к иудаизму.)
Но одновременно сионисты видят, что единственная реальная сила, создающая единство евреев и предохраняющая их от ассимиляции, – это иудаизм. И хотя сионизм – секулярная идеология, продукт распада иудаизма, страх секуляризации проходит красной нитью через многочисленные писания неверующих сионистских идеологов [163]. Более того, пытаясь вложить какое-то позитивное содержание в идею «единой еврейской нации», сионизм ничего, кроме религии, найти не может. Поэтому он и отталкивается от иудаизма, и не может без него обойтись, и, когда перед израильскими руководителями встала задача сплотить разношерстных (и фактически – разноплеменных) иммигрантов, они были вынуждены обращаться к иудаизму и заимствованным из него элементам. Даже «мапамовцы» – представители левой фракции «рабочих» сионистов – голосовали за объявление религиозных праздников праздниками национальными. При этом по мере усиления культурного плюрализма Израиля (в результате численного роста и подъема самосознания иммигрантов из арабских и других восточных стран) и ослабления сионистского пафоса «нормализации» и характерного для начального периода истории Израиля культа государства (подъем, связанный с созданием государства, кончился, «праздник» сменился буднями, положение государства остается весьма трудным) интегрирующая культурная роль религиозной традиции и символики даже усиливается. И воплощающие религию клерикальные партии выступают как стражи «этнической чистоты», гаранты «еврейского» характера государства [164].
При этом между религиозными и нерелигиозными сионистами устанавливается своеобразное «разделение труда». Дело в том, что нерелигиозные сионистские лидеры постоянно сталкиваются с проблемами и задачами, разрешить которые сами, без клерикалов, они просто не могут. Например, у них нет ясных «светских» критериев, позволяющих им как-то отграничить еврея от нееврея, решить, например, можно ли считать евреями черных фаллашей из Эфиопии или человека, у которого еврейкой была бабушка. Никаких научных критериев здесь и быть не может, ибо границы этносов размыты, неопределенны и четкие границы здесь могут быть лишь условными (и к евреям это относится больше, чем к кому-либо). Более того, попытка «научно» подойти к этому вопросу чревата сползанием в расизм. Но можно избавиться от этих вопросов, передав их (разумеется, под давлением) раввинам. Как сионистам, стремящимся к интеграции и обособлению евреев, лидерам Израиля нужен запрет на брак евреев и не-евреев. Но лидеры партии, входящей в Социнтерн, не могут сами, по своей воле, вводить такой запрет. Однако они могут не вводить гражданский брак по настоянию клерикалов. Как сионистам, им выгодно ограничение деятельности христианских миссионеров. Но как могут идти на такое ограничение светские партии? И, опять-таки, в этом случае помогает давление клерикалов. Таким образом, про клерикальное давление можно сказать, что, если бы его не было, светским сионистам «следовало бы его выдумать». Клерикальное давление необходимо для них, ибо лишь оно позволяет им сочетать сионизм с приверженностью демократическим принципам. Лишь оно позволяет им сохранить «идейную чистоту», выступая как приверженцы различных «западных» политических идеологий. Сила клерикалов, таким образом, не в них самих, а в глубоких, скрытых противоречиях в сознании неклерикального большинства.
Сказанное объясняет и странное на первый взгляд отношение светских сионистов к неортодоксальному иудаизму. Кажется, что реформированный иудаизм, отбросивший наиболее архаичные аспекты ортодоксии, должен быть светским сионистам ближе, чем талмудисты и хасиды. На деле, однако, наоборот. Реформизм трансформировал иудаизм в некое подобие либерального протестантизма (без веры в Иисуса Христа) и способствовал созданию у своих приверженцев стиля жизни, практически не отличающегося от стиля жизни их соседей – «христианских» буржуа и интеллигентов. Если ортодоксия создает стену между евреями и неевреями, то реформационные течения – это инструмент своего рода «полуассимиляции», ассимиляции без резкого разрыва с прошлым, с религией и с общиной. Естественно, что распространены эти течения в западных странах, где эмансипация началась раньше и шла не так болезненно, как в Восточной Европе, основной массовой базе ранней сионистской иммиграции в Палестину. Реформационные течения и сионизм, таким образом, выступали как враждебные и альтернативные идеологии [165]. И хотя после 40-х годов, эпохи гитлеровского геноцида и образования Израиля, сопротивление реформистов сионизму практически исчезло, а в 70-е годы основные неортодоксальные иудаистские объединения вошли в ВСО, их сионизм свелся к политической и финансовой поддержке Израиля и ни к какой сколь-либо значительной эмиграции в это государство так и не привел. Более того, само их вступление в ВСО и усилившееся стремление как-то «внедриться» в Израиль и добиться там равноправия служат своего рода «компенсацией» все более отчетливо выступающей в реформизме тенденции санкционировать ассимиляционные процессы, вступившие сейчас в основном центре реформизма – США – в новый этап. Если до 1960 года менее 13 % браков американских евреев заключалось с неевреями, то уже к началу 70-х годов – чуть меньше половины [166], а сейчас, очевидно, больше половины. Боясь потерять паству, реформистское руководство вынуждено идти на уступки, и в 70-е – начале 80-х годов все чаще при смешанных браках обряды совершают христианский священник и раввин. Реформисты начинают активно принимать в свои общины неевреев по происхождению, а в 1983 году реформистский съезд постановил, в полном противоречии с «галахой», считать евреями любых детей смешанных браков, если они воспитываются в «еврейском духе». Естественно, что эта эволюция вызывает у ортодоксов (не только израильских) бешенство и они сопротивляются любым попыткам реформистов получить легальный статус в Израиле. Но характерно, что и светские сионисты, на словах часто выражая сочувствие и поддержку неортодоксам и ссылаясь все на то же клерикальное давление, ничего в поддержку их требований не предпринимают. Более того, выступая в 1983 году на съезде реформистов, президент Израиля «рабочий» сионист X. Герцог довольно ясно выразил недовольство решениями реформистов и призвал их «поставить еврейское единство выше всех прочих соображений» [167].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: