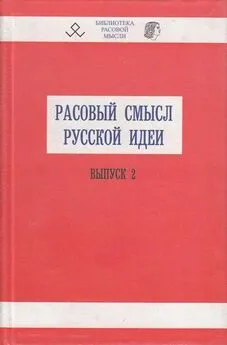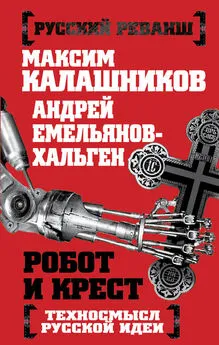В. Авдеев - Расовый смысл русской идеи. Выпуск 2
- Название:Расовый смысл русской идеи. Выпуск 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Белые альвы»62f4c645-be35-11e3-b100-0025905a0812
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-7619-0167-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
В. Авдеев - Расовый смысл русской идеи. Выпуск 2 краткое содержание
Данный сборник работ является логическим продолжением первого выпуска «Расовый смысл русской идеи», вышедшего в нашей книжной серии, и направлен на выработку концептуальных основ новой русской расовой теории. Помимо статей, посвященных осмыслению рассмотренного контекста фактов нашей истории, в сборнике представлены исследования о биологических причинах, лежащих в основе современных социальных и политических явлений, а также анализ демографической ситуации и возможные варианты выхода из кризиса. Вся книга подчинена созданию позитивной программы повышения жизнеспособности русского народа как важной части белой расы. Как и первый, данный выпуск снабжен оригинальными документами, помогающими практически оценивать качество человеческого материала, а также свидетельствами обсуждения темы на уровне Государственной Думы Российской Федерации. Для широкого круга читателей, интересующихся будущим своих потомков.
Расовый смысл русской идеи. Выпуск 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Доводя эту мысль до конца и учитывая биологические и антропологические доводы, можно сказать, что политическое поведение есть в некотором смысле повторение моделей поведения, связанных с отношениями хищник-жертва в живой природе и тотемическими обычаями древних человеческих сообществ.
В этом смысле какие-либо разговоры о возможности «объективной» позиции в политике являются профанными или же сводят политику к иным формам жизнедеятельности – религии, праву, экономике и т. п. Напротив, «всякая религиозная, моральная, экономическая, этническая или иная противоположность превращается в противоположность политическую, если она достаточно сильна для того, чтобы эффективно разделять людей на группы друзей и врагов». «Если противодействующие хозяйственные, культурные или религиозные силы столь могущественны, что они принимают решение о серьезном обороте дел, исходя из своих специфических критериев, то именно тут они и становятся новой субстанцией политического единства» [36].
Как отмечает Шмитт, политическое единство должно в случае необходимости требовать, чтобы за него отдали жизнь. В политике важным оказывается не самопожертвование ради «мы»-общности, а готовность к нему, наполняющее особой энергией поведение индивида, делающее его собственно политическим. Война как предпосылка сплачивает «мы»-группу и переопределяет любые основание ее организации в политические.
Народ как «мы»-группа, является политически независимым только в том случае, если он способен различать «друга» и «врага». Если такая способность утрачивается или передается некоей внешней силе (скажем, в химерической государственности – представителям иного этноса), то такой народ перестает существовать в качестве политического субъекта. Если какая-либо политическая сила стремится доказать, что у народа врагов нет или что именно такое состояние является желательным, то эта сила действует в пользу врагов народа, которые существуют не только в воображении, но и в реальной действительности.
Если в межличностном конфликте столкновение с врагом (в том числе и в экзистенциальной схватке по поводу нравственных ценностей) не предполагает его окончательное уничтожение (что снимало бы продуктивное противоречие), то в столкновение народа со своим врагом, последний может быть только народом и только таким народом, противоречие с которым не может быть продуктивным. Враг народа должен быть обращен в «ничто», ибо ненависть к нему обезличена (Гегель). Только тогда народ может утвердить свой нравственный принцип.
Вместе с тем, массовость современной политики требует, чтобы экзистенциальное столкновение или дележ территории, имущества и социальных статусов происходил от имели «мы»-группы выделенными из нее активистами (или активистами, сформировавшими вокруг своей позиции «мы»-группу), которые структурируют стихийную референтность в «мы»-группе и отталкивание от «они». Для политического активиста, таким образом, наличествует прямая заинтересованность в «они», как в явлении, обуславливающем необходимость их профессии. Следовательно, «мы», стремящееся к небытию «они» оказывается в неявном противостоянии с собственными активистами, вынужденными по возможности регулировать референтность среди своих противников.
Как отмечает современный исследователь феномена политического А. И. Пригожин, «соперничество между представителями или выразителями разных групп строится на механизме взаиморефлексии. Это не означает прямого и непосредственного действия, направленного на достижение своих целей, а предполагает предвосхищение ожидаемых действий соперников, в результате чего конкретное решение может далеко отходить от цели, так как рассчитывается с учетом его воздействия на поведение соперников (если я так, то он эдак, поэтому я иначе…)» [37]. Отсюда следует насколько важно сохранять образ врага, ввиду постоянного его размывания политическими технологиями представителей группы, от имени которой действуют политические активисты. Если «мы»-группа должна удерживать образ врага и постоянно воспроизводить энергетику вражды (вплоть до силового противостояния), чтобы оставаться политическим субъектом, то представляющие группу активисты лишь используют этот образ и эту энергетику для мобилизации группы и для достижения преимуществ в конкуренции по поводу захвата и удержания «политического капитала».
Размывание оппозиций
Ницше писал об этом: «Кто проанализирует совесть современного европейца, тот из тысяч ее моральных складок и скрытых уголков извлечет один и тот же императив, императив стадного страха: «мы хотим, чтобы наступил наконец момент, когда бы нам нечего было бояться!» Путь к этому моменту, стремление к нему, называется нынче в Европе и повсюду – прогрессом» [38].
Между тем, опасность – то, что наполняет жизнь непередаваемым букетом ощущений. Она присутствует и в спорте, и в войне. Война многочисленного целого слоя молодых и сильных людей является делом привлекательным именно в связи с ощущением опасности, страха смерти и волевых усилий по его преодолению. Повстанец, камикадзе – это в большинстве своем вовсе не психически больные фанатики. Это люди, для которых образ врага слился с понятием мирового Зла, ради ущерба которому можно и нужно отдать свою жизнь. При этом Зло может обладать притягательностью именно в связи с ненавистью к нему [39].
Страх своего собственного страха сформировал в Западной цивилизации доминирующую политическую группировку, для которой образ врага заключен в источниках собственного страха любых жестких оппозиций (то есть, собственно политических конфликтов). Главнейшим и легко обнаружимым образом становится образ национального государства. Государство как принцип устроения общества обобщает все страхи. А поэтому, как заметил Шмитт, «либерализм в типичной для него дилемме “дух/экономика” попытался растворить врага, со стороны торгово-деловой, – в конкуренте, а со стороны духовной – в дискутирующем оппоненте». «Правда, либерализм не подверг государство радикальному отрицанию, но, с другой стороны, и не нашел никакой позитивной теории государства (…); он создал учение о разделении и уравновешении “властей”, т. е. систему помех и контроля государства, которую нельзя охарактеризовать как теорию государства или как конструктивный политический принцип». «Из совершенно очевидной, данной в ситуации борьбы воли к отражению врага, получается рационально-конструированный социальный идеал или программа, тенденция или хозяйственная калькуляция. Из политически соединенного народа получается на одной стороне культурно заинтересованная публика, а на другой – частью производственный и рабочий персонал, частью же – масса потребителей. Из господства и власти на духовном полюсе получается пропаганда и массовое внушение, а на хозяйственном полюсе – контроль. Мораль, в свою очередь, тоже стала автономной относительно метафизики и религии, наука – относительно религии, искусства и морали и т. д.» [40] .
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: