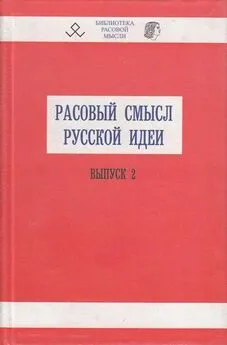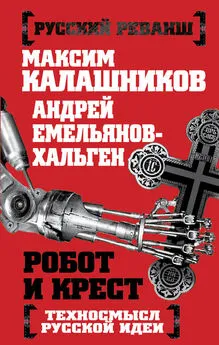В. Авдеев - Расовый смысл русской идеи. Выпуск 2
- Название:Расовый смысл русской идеи. Выпуск 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Белые альвы»62f4c645-be35-11e3-b100-0025905a0812
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-7619-0167-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
В. Авдеев - Расовый смысл русской идеи. Выпуск 2 краткое содержание
Данный сборник работ является логическим продолжением первого выпуска «Расовый смысл русской идеи», вышедшего в нашей книжной серии, и направлен на выработку концептуальных основ новой русской расовой теории. Помимо статей, посвященных осмыслению рассмотренного контекста фактов нашей истории, в сборнике представлены исследования о биологических причинах, лежащих в основе современных социальных и политических явлений, а также анализ демографической ситуации и возможные варианты выхода из кризиса. Вся книга подчинена созданию позитивной программы повышения жизнеспособности русского народа как важной части белой расы. Как и первый, данный выпуск снабжен оригинальными документами, помогающими практически оценивать качество человеческого материала, а также свидетельствами обсуждения темы на уровне Государственной Думы Российской Федерации. Для широкого круга читателей, интересующихся будущим своих потомков.
Расовый смысл русской идеи. Выпуск 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Приведем некоторые данные, иллюстрирующие наши утверждения. Прежде всего коснемся материальной культуры. Исследователями уже давно было замечено, что материальная культура славян Новгородской земли и прилегающих территорий эпохи колонизации и сложения Русского государства не имеет ничего общего с культурами, предшествовавшими ей на этой территории, а также культурами южнославянских племен – предков украинцев. Эта высокоразвитая дружинная культура возникла на севере Русской равнины не в результате развития из предшествующих ей древностей, а была перенесена в готовом виде с прародины предков русских – южного побережья Балтики. О погребальных памятниках в виде сопок, символизировавших викингские корабли, мы уже говорили. То же самое можно сказать, например, о крепостном строительстве. Для Новгородской земли была характерна решетчатая конструкция оборонительных сооружений (например, крепость X в. в Городце под Лугой, новгородская крепость XII в.), совершенно неизвестная на Украине, но зато широко распространенная в землях балтийских славян. Можно отметить также домостроительство (наземные дома в отличие от южных полуземлянок), керамику и т. д. – все эти культурные традиции имеют своим источником земли балтийских славян. Особенно ярко в этом отношении выделяется первая русская столица – Ладоги, которая с самого момента своего появления в середине VIII в. представляла из себя высокоразвитый городской центр.
В эпоху, предшествующую славянскому расселению, славяне наряду с восточными германцами входили в ареал пшеворской археологической культуры, существовавшей во II в. до н. э. – V в. н. э. на территории Центральной Европы. Как мы уже говорили, в момент начала своего расселения славяне уже были разделены на две группы – склавен и венедов, для каждой из которых была характерна своя собственная археологическая культура. Склавенам принадлежала пражско-корчакская культура, распространившаяся в VI–VII вв. из районов, прилегающих с севера к Карпатам, на территорию Правобережной Украины и на Балканы, где она дала начало последующим славянским культурам. Для венедов была характерна суковско-дзедзицкая культура V–VII вв. севера Центральной Европы, унаследовавшая пшеворские черты. Именно в рамках суковско-дзедзицкой культуры сложились те традиции, которые потом были перенесены на восток и легли в основу культуры сопок VII–IX вв. – культуры предков русского народа. В VII веке суковско-дзедзицкая культура дала начало трем новым севернославянским культурам – менкендорфской (принадлежавшей ободритам), голанчской (принадлежавшей поморянам) и культуре сопок (принадлежавшей русским).
Окончательная ясность в этот вопрос была внесена после открытия в Новгороде в 50-х гг. нашего века берестяных грамот. До того момента все утверждения о «едином древнерусском народе» основывались в значительной степени на языковых данных. Однако все эти данные брались из письменного языка, который действительно в XI–XIII веках был в значительной степени однородным во всех русских княжествах. Но объясняется эта однородность тем, что после крещения России в конце X века в качестве литературного языка в ней стал использоваться так называемый церковнославянский язык, который в действительности был языком славянского народа драговитов, обитавшего с VI века в окрестностях Фессалоники, положенным Кириллом и Мефодием в конце IX века в основу создаваемого ими литературного славянского языка. Наряду с церковнославянским в русских княжествах использовался при письме и так называемый «древнерусский язык», который в действительности был своеобразным койне, сочетанием различных диалектов, опять-таки испытавшим огромное влияние со стороны церковнославянского.
О подлинном разговорном языке населения Русского государства в интересующую нас эпоху было практически ничего не известно. Но находка в Новгороде берестяных грамот заполнила эту лакуну, предоставив исследователям бесценный материал для исследования языка наших предков. В результате этого стало возможным с полной определенностью говорить о том, о чем раньше лишь строили предположения на основании изучения современных диалектных явлений и случайных следов разговорного языка в древних письменных памятниках. Оказалось, что в северных областях Русского государства говорили на языке, очень сильно отличавшемся от письменного «древнерусского» и родственном не языку предков украинцев, а языкам балтийских славян и имевшем некоторые очень архаичные черты. Находка берестяных грамот блестяще подтвердила предположение о первоначальном разделении славянства на северную и южную ветви, предшествовавшем делению на западную, восточную и южную группы, причем полученные языковые данные позволили исследователям с уверенностью утверждать, что отличия между двумя первыми ветвями славянства возникли еще на его прародине в Центральной Европе до начала славянского расселения в VI веке. Таким образом было убедительно доказано, что не существовало не только никакого общего «древнерусского» языка, но и общего «восточнославянского», – языки предков русских и украинцев вышли из праславянского совершенно независимо друг от друга.
Не менее красноречивыми, чем языковые свидетельства, являются данные о политическом устройстве Русского государства. Севернославянская государственная традиция характеризовалась естественным сочетанием монархических, аристократических и демократических начал. Источником государственной власти являлся вооруженный народ (народ-войско), состоявший из свободных мужчин-воинов и решавший вопросы государственного управления на вече. Органичной частью государства являлась аристократия, состоявшая из имеющих особые заслуги представителей народа-войска. Во главе государства стоял князь, избиравшийся на вече из членов харизматического княжеского рода, главным делом которого было военное руководство. Важная роль в государственном управлении у северных славян принадлежала также жречеству.
Подобный тип государственного устройства характерен именно для славян-венедов, его не было ни у одного из народов южнославянской группы. У северных славян в историческую эпоху он присутствовал наиболее ярко у славян балтийского Поморья и русских. В качестве примера можно взять русский Новгород и столицу Поморья Щецин: и здесь и там мы видим, что ведущая роль в управлении государством принадлежит вечу, принимать участие в котором могут все свободные мужчины. И здесь и там имеется совет знати, обладающий определенными властными прерогативами, а также играющее важную роль жречество. И здесь и там князь выбирается вечем и осуществляет главным образом военные и представительские функции, и т. д. Государственные системы этих городов были сходны между собой вплоть до мельчайших деталей: так, например, и в Новгороде и в Щецине административные единицы назывались «концами». Интересно отметить, что в Новгороде после крещения христианский епископ унаследовал привилегии верховного языческого жреца и обладал властью, которой не имели церковные иерархи в других русских землях. Он не только принимал активное участие в государственном управлении, но и разделял с новгородским князем командование военными силами. Новгород уникален тем, что он сохранил дольше всех других севернославянских государств – до московской оккупации в конце XV века – государственную систему, характерную для северных славян. Таким образом, очевидно, что Новгородское государство XII–XV веков является не каким-то новообразованием, возникшим в результате отклонения от магистрального пути развития Русского государства, как это хотелось бы представить деятелям евразийской ориентации, а хранителем наиболее чистых русских и – шире – северно-славянских, северноевропейских, арийских традиций, то есть Русским государством par excellence.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: