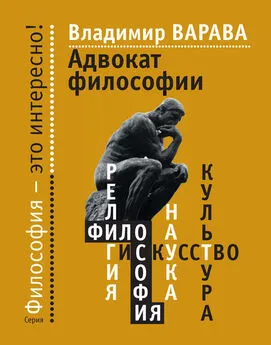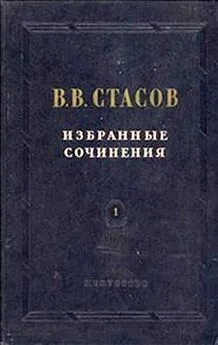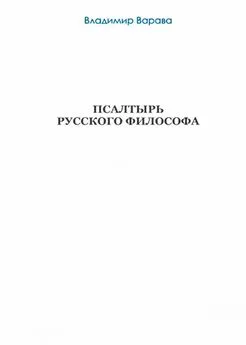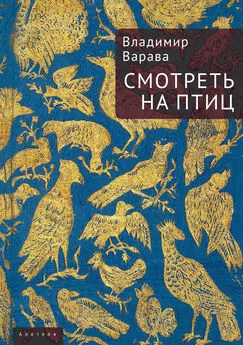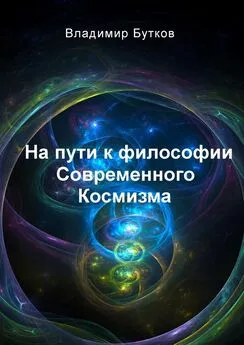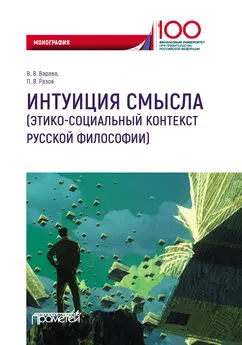Владимир Варава - Адвокат философии
- Название:Адвокат философии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Этерна»2c00a7dd-a678-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-480-00336-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Варава - Адвокат философии краткое содержание
Особенность этой книги состоит в том, что в ней нет специализированной терминологии и прямых ссылок, цитат и упоминаний различных авторов. В ходе ответов на поставленные вопросы обсуждаются такие проблемы, как сущность философии; отличие философии от науки, религии, искусства; социальная миссия философии в обществе и культуре. Рассматриваются причины современного «упадка философии», которые связываются с тем, что философия подменяется иными формами духовной культуры. Ставится задача раскрыть значимость философии средствами самого языка и через обращение к жизненным ситуациям человека.
Книга будет интересна для всех, кто интересуется философской проблематикой, не исключая, однако и тех, кто подвизался на профессиональном философском поприще.
Адвокат философии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
89. Откуда такая воля к жизни?
Воля к жизни не есть воля к цели или воля к наслаждению. Или воля, основанная на преодолении страха смерти. Тем более это не воля к каким-то несущественным идеям, принципам, вещам (при всей видимости их существенности). И уж точно она не есть воля к смерти. Воля к жизни есть воля к воле. Это чистый принцип бытийной потенции. Любые цель, смысл, идея, положенные в основание воли, убивают ее в силу своего наличия. Только бесцельность и бессмысленность воли создают открытую возможность для всех целей и всех смыслов.
90. Что такое вера?
Этот вопрос почти не возникает за его якобы очевидностью и понятностью. Слово «вера» – одно из наиболее частотных не только в религиозном лексиконе. Есть некая априорная убежденность в том, что без веры нельзя жить, что сущность человека – в вере. «Главное – верить», – говорит обыденное сознание, совершенно не задаваясь вопросом о смысле и содержании этого понятия. Возникает подозрение, что аналитические работы о вере отсутствуют (есть лишь апологетические трактаты). Психология здесь не в счет, поскольку в ней все «духовные» явления имеют оно и то же происхождение. Даже в философии (в критической по отношению к религии философии) речь идет, как правило, о критике «предметов веры» (Бога, чудес, аскетизма и т. д.); наличие самой веры, способности верить не подвергается сомнению (потому что верить можно не только религиозно). Мы же хотим поставить под сомнение не предметы религиозной веры, но саму веру как таковую, заявив, что в человеческом духе, в духовном мире человека отсутствует такое явление, состояние, качество, способность, модальность, как вера. «Маловерие» – несуществующее явление. В любом случае, когда говорят вера, то всегда имеют в виду нечто другое, другие состояния (реально существующие): доверие, уверенность, знание, надежда, желание, чаяние, воление, стремление, хотение, предположение, устремленность, обетование. Ряд при желании можно продолжать. За всеми этими понятиями стоят реальные душевные силы и способности человека. За понятием «вера» нет ничего, кроме веры. В случае с верой имеет место классическая «натуралистическая ошибка»: говоря о вере, всегда имеют в виду нечто другое. Парадоксально то, что сам Бог реальнее веры в Бога. Есть Бог, но не может быть «веры в Бога». Есть мир, но не может быть веры в мир. Есть человек, но не может быть веры в человека. Во всех этих случаях чаще всего речь идет о доверии либо об уверенности. Без веры действительно не может существовать – но не человек, а язык. В языке концепт «веры» имеет значимую семантическую функцию; это – «семантический фантом», то есть не существующее реально явление, обладающее понятийной силой собирать духовные (в религиозной терминологии) или метафизические (в философской) способности и проявления человека. На что всегда может поступить возражение, что это «лингвистическая деконструкция языкового концепта», в то время как в действительности, в реальной жизни есть чувство и состояние, которое называется верой. Сильна еще вера в веру ! Если и можно говорить о чем-то реально существующем применительно к вере, то только о «вере в веру». Разоблачение веры не есть злонамеренный и кощунственный акт, происходящий по «сатанинскому наущению», здесь нет никакого нигилизма и святотатства. Это, если хотите, продвижение к большей нравственности, к большей истинности. Но разве обладающие «верой» хотят истины?
91. Кто носитель заурядного мышления?
Часто употребляются такие словосочетания: «обыденное мышление», «массовое сознание», «здравый смысл». Можно встретить и более откровенные формулировки: «плебейское мышление», «чернь», «толпа», «мораль рабов». Это разные обозначения неэлитарного сознания, неаристократического духа. Они охватывают широкие пласты людей, объединяемых одним – невзыскательным (если не сказать низким) взглядом на вещи, иначе – дурным вкусом. Это характеристика представителей низших социальных групп, интеллектуальный уровень которых невысок, как невысок и уровень художественной одаренности и талантливости. Однако деление людей на «элиту» и «массы» устарело в эпоху глобального кровосмешения страт, реально разделяемых лишь экономическими показателями. Вообще, элита в своей массе давно уже утратила аристократические черты, став в лучшем случае «образованной чернью». Сейчас нужно думать о том, что действительно духовно, а не экономически разделяет людей. Нужно говорить о «заурядном мышлении», главной отличительной чертой которого является нефилософичность. Представитель заурядного мышления может обладать мощным интеллектом, богатым воображением, огромным творческим дарованием, талантом и быть даже гением! Он может быть порядочным человеком в нравственном отношении, верующим – в религиозном. Это может быть очень умный человек с обширными знаниями, эстетически развитый человек с тонким вкусом, глубокий знаток искусства и культурный эрудит, известный ученый и первоклассный богослов, выдающийся политик, достигший успеха финансист, блестящий писатель, гениальный композитор или художник, тонкий психолог – знаток человеческой души. Это может быть богатый, успешный, сильный и здоровый человек, многократный чемпион мира. Этот человек может быть кем угодно! Он может быть даже религиозным подвижником и святым. Но главное, что все его дарования и способности не являются препятствием для заурядного мышления, которое характеризует лишь одно – неспособность к открытому и честному философствованию. На одной чаше весов – философия, на другой – все остальное. Именно поэтому по-настоящему великое – столь редкое явление.
92. Почему бессмысленно и безнравственно спрашивать и рассуждать о «жизни после смерти»?
Вопрос о том, что будет «потом», «там», то есть за гранью наличной жизни, совершенно неправомерен, поскольку проистекает из неверной презумпции обязательного «конца». Но конец концу рознь. Да, жизнь имеет видимый конец. Об этом мы можем судить, видя, как умирают люди, другие люди. Но этим сущностная картина жизни не исчерпывается, поскольку жизнь как таковая не исчерпывается ни «началом», ни «концом». И не только потому, что «начала» и «концы» сокрыты от человека, но и в силу того, что жизнь выше этих определений. Жизнь настолько загадочна, что полагать ее конечной и мыслить о том, что там «дальше», крайне недальновидно, если не сказать безумно. Непонимание сущности жизни здесь и теперь, что есть философская близорукость, порождает вопрос о том, что «там». Как будто что-то может разрешиться «там»! Почему? Зачем? Для чего? Не желая напрягаться на наличное, мы переносим все вопросы в «потустороннее». Причем неважно: в потустороннее религиозное или потустороннее научное. Научное «ничто», или абсолютная смерть, тоже есть определенное «там»; это тоже потустороннее. Научная, материалистическая смерть – отрицательная трансцендентность, скорее даже нулевая; она так же бессмысленна, как и религиозная «жизнь» после смерти, то есть положительная трансцендентность. Неважно: смерть после смерти или жизнь после смерти. Главное, что «после» смерти. А вот это «после» как раз и невозможно для жизни: для нее никакого «после» нет. Философское понимание бытия снимает проблему «после» в любом ее виде (научном или религиозном). Думая о «после» как о самом важном, мы снимаем с себя и ответственность за происходящее, и возможность его более глубокого осмысления, напрочь убиваемую всяким постулированием «после». «После нас хоть потоп» (максима атеизма) или «Да приидет Царствие Твое» (максима религии) равно аморальны, поскольку равнодушны к наличному и существующему и совершенно беспомощны перед ним. Вот почему размышления о «жизни после смерти» бессмысленны и безнравственны.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: