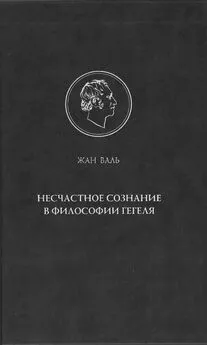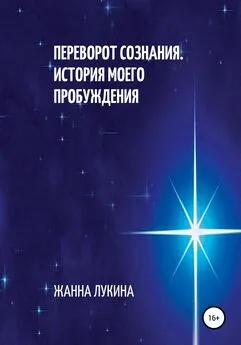Жан Валь - Несчастное сознание в философии Гегеля
- Название:Несчастное сознание в философии Гегеля
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Владимир Даль
- Год:2006
- Город:Санкт–Петербург
- ISBN:5-93615-061-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жан Валь - Несчастное сознание в философии Гегеля краткое содержание
В книге представлено исследование формирования идеи понятия у Гегеля, его способа мышления, а также идеи "несчастного сознания". Философия Гегеля не может быть сведена к нескольким логическим формулам. Или, скорее, эти формулы скрывают нечто такое, что с самого начала не является чисто логическим. Диалектика, прежде чем быть методом, представляет собой опыт, на основе которого Гегель переходит от одной идеи к другой. Негативность — это само движение разума, посредством которого он всегда выходит за пределы того, чем является. Отчасти именно рефлексия над христианским мышлением, над представлением о Боге, создавшем человека, приводит Гегеля к концепции конкретного всеобщего. За философом мы обнаруживаем теолога, а за рационалистом — романтика. Для широкого круга читателе
Несчастное сознание в философии Гегеля - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Воплощение ставит нас перед лицом неизменного, которое тем самым является и всеобщим; и это неизменное, облаченное в признаки индивидуальности, сами эти признаки становятся чем‑то универсальным. Субстанция есть субъект. Мир в целом для Гегеля благодаря воплощению и, вообще говоря, благодаря христианским верованиям — так как Гегелю кажется, что идеи творения и воплощения были связаны, — мир в целом восстанавливается, освобождается, освящается, обожествляется; он есть истина, хотя еще несовершенная. Мир одушевляется, разум воплощается. [104] О значении теологических идей для идеи образования Природы и Духа см.: Dilthey. Р. 248; Stirling. Secret. 1, 148. Дильтей показывает, насколько Шеллинг был согласен с Гегелем: роль мучительного противоречия, разделения выявляется в Бруно. Дильтей замечает у него идею страдающего и подчиненного временным определениям Бога. У Фихте можно обнаружить колебание между концепцией Спинозы и дуалистической концепцией, почти совпадающей с концепцией Беме. Позже «Weltalter» Шеллинга изложит идеи, которые, в зависимости от способа, которым их рассматривают, сближаются с идеями Гегеля и Шопенгауэра. См.: Гельдерлин , письмо от 24 декабря 1798 года брату. См. также позже, у Золъгера , использование идей ограничения Бога самим собой, разделения в божественном, жертвы Бога и смерти смерти
Мистерии Цереры и Вакха, в которых вино и хлеб существуют действительно лишь как материальные вещи, были прообразом христианской мистерии, но не более того; перед нами здесь «телесность», которая, как абстрактный момент, еще отделена от разума. И какой бы прекрасной она ни была, последний из факелоносцев, проливающий более далекий, более прекрасный свет, чем все статуи, так как он есть само движение, является еще только человеком на самой высокой ступени своего цветения; это еще не обожествленный человек. И если мы переходим от живого произведения искусства к произведению, которое говорит, если мы пытаемся соединить в драме то, что Ницше будет называть дионисийскими и аполлонийскими элементами, соединить таким образом, чтобы достичь какой‑то разновидности прозрачного энтузиазма, то мы еще не достигли религии откровения. По крайней мере переходя от эпопеи к трагедии, где герой является посредником, но посредником неудовлетворенным и обманутым, между Богом, всеобщей субстанцией, и индивидами, единичными субъектами, затем посредством комедии, которая, превращая богов в тучи, заставляет увидеть единство человека и судьбы, — художественная религия позволяет перейти от стадии религии субстанции к стадии религии субъекта. Человеческое «Я» — это уже не случайность бытия, понимаемая как мраморная статуя; это бытие, которое является в случайности «Я», понимаемого как «Я», возвышающееся над временем и пространством. Несчастное сознание — это осознание того трагизма, который находится в глубине комедии, той скорби всех великих комиков, которая неизбежна, поскольку они разрушают любую достоверность. Личность лишается ценности — из произведения искусства исчезает душа. Тогда возникает самая великая трагедия, та, что исходит из факта, что Бог умер. Утрата любой уверенности, идея абсолютного несчастья, идея смерти Бога — все это одна и та же единственная идея.
Все формы сознания — чувственное сознание, стоицизм, скептицизм — дожидаются, окружив колыбель, нового рождения духа. В центре этого круга — страдание несчастного сознания, предшествующие формы которого были лишь раздробленными элементами; и именно из него рождается новый бог. Все вещи для него утратили свое значение, и даже оно само. Но именно в этом бедствии оно намерено получить самый великий дар.
Иисус — это брат Диониса и Геракла, скажет Гельдерлин. Божественность Геракла вспыхивает в пламени костра, а божественность Иисуса исходит из гробницы. Тем не менее пусть сходство не скрывает от нас различие. Если воздвигать алтари Гераклу, то это герой, который перестал бороться, но который, несомненно, является формой самого мужества. Напротив, что касается Иисуса, то это не герою, не Богу, не только тому, кто вновь явился на третий день, воздвигаются алтари; молятся также и тому, кто был распят на кресте. «Чудовищная связь», главная мистерия христианства, которую в некоторых из своих первых фрагментов Гегель отказывается принять, так же как он отталкивал и идею жертвы, столь важную для него позже. Поклоняются Богу, но, каким бы храбрым он ни был, поклоняются его слабости. Вскоре Гегель поймет смысл этой связи. «Не должно ли все страдать?» — спрашивал Гельдерлин. И чем выше существо, тем глубже должно быть его страдание. Разве божественная природа не страдает?» [105] Нурепоп. IV, 147.
Без смерти нет и жизни. [106] См.: Bettina von Arnim . Die Günderode. P. 243: «Так как всякая жизнь в слове, в теле — это воскресение (в жизни, в деле), которое может исходить лишь от того, кто был смертельно поражен. Смерть — это источник жизни».
Эта смерть Бога дает все свое значение человеческому страданию, а человеческое страдание — это бесконечная боль, доказательство божественной бесконечности, объединяющей противоречия, между которыми разорван человеческий разум.
Разве не та же самая идея выражена в одном из самых темных отрывков Гельдерлина? Он пишет там, что борьба и «смерть индивида, то есть момент, когда организованное снимает свое „Я”, свое единичное существование, которое достигло крайней остроты, когда неорганизованное [107] Гельдерлин понимает под неорганизованным хаотическое сверхиндивидуальное начало вещей.
снимает свою всеобщность, не как в начале, в идеальном смешении, но в реальном сражении, в более энергичном бою, поскольку единичное против крайности организованного должно постоянно стремиться к активному обобщению, должно постоянно вырываться из центра, а единичное против крайности неорганизованного должно всегда еще больше концентрироваться, всегда еще больше завоевывать центр и становиться еще более особенным; момент, когда организованное, ставшее, следовательно, неорганизованным, кажется, восстанавливается и возвращается в себя, сохраняя себя привязанным к индивидуальности неорганизованного, и когда объект, неорганизованное, кажется, восстанавливается, обнаруживая в тот же самый момент, когда он примиряется с индивидуальностью, организованное в самой крайней точке неорганизованного, таким образом, что в тот же самый момент, при рождении самой большой враждебности, осуществляется и самое большое примирение».
Идея смерти Бога и, следовательно, жизни Бога, божественная диалектика, где смерть преображается в негативность, встречается здесь с образованием идеи понятия, которую предоставляет размышление о примирении с судьбой. Раны, которые кровоточат на теле Христа и существенные противоречия разума, — кажется, что Гегель видел их иногда как одну — единственную рану. Одно и то же слово дает решение двум проблемам, которые являются двумя лишь по видимости, — проблеме несчастного сознания и абстрактного понимания. И это примирение совершается в тот момент, когда противоположности наиболее глубоки, в точке самой большой враждебности двух природ, что означает, что логический закон, отрицающий противоречие, преодолен и заменен законом, который его утверждает.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: