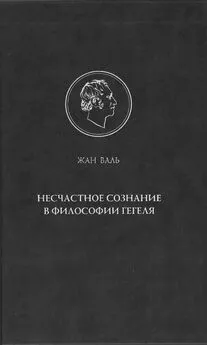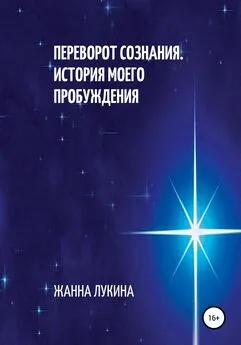Жан Валь - Несчастное сознание в философии Гегеля
- Название:Несчастное сознание в философии Гегеля
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Владимир Даль
- Год:2006
- Город:Санкт–Петербург
- ISBN:5-93615-061-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жан Валь - Несчастное сознание в философии Гегеля краткое содержание
В книге представлено исследование формирования идеи понятия у Гегеля, его способа мышления, а также идеи "несчастного сознания". Философия Гегеля не может быть сведена к нескольким логическим формулам. Или, скорее, эти формулы скрывают нечто такое, что с самого начала не является чисто логическим. Диалектика, прежде чем быть методом, представляет собой опыт, на основе которого Гегель переходит от одной идеи к другой. Негативность — это само движение разума, посредством которого он всегда выходит за пределы того, чем является. Отчасти именно рефлексия над христианским мышлением, над представлением о Боге, создавшем человека, приводит Гегеля к концепции конкретного всеобщего. За философом мы обнаруживаем теолога, а за рационалистом — романтика. Для широкого круга читателе
Несчастное сознание в философии Гегеля - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Феноменологическая теория аналогична теории благодати, для которой нельзя отделить то, что исходит от Бога, и то, что исходит от свободной воли.
Такое присутствие неизменного в индивидуальном и индивидуального в неизменном Гегель характеризовал, используя термин erfährt : способ, которым представлено неизменное, является на самом деле опытом ( Erfahrung ) сознания, опытом, который является испытанием сознания, разделенного во время его несчастья. Откровение неизменного рождается от этого самого несчастья, и феноменология в целом является историей такого опыта. Но не об этом следует вести речь, и Гегель обращает внимание, что это движение нельзя рассматривать ни с точки зрения неизменного, ни с точки зрения индивидуального сознания. Это движение не является односторонним, или, скорее, сторона, которая рассматривается, непосредственно превращается в противоположную сторону, так как само единичное сознание, как мы видели, есть сознание неизменное; и тогда, говорит Гегель, можно разделить движение, о котором мы говорим, рассматривая его на этот раз с точки зрения неизменного сознания, которое, каким бы парадоксальным это ни могло бы показаться, также движется и которое в первый момент противопоставляется единичному, рассматриваемому в целом (и это иудаизм); во второй момент воплощается, чтобы стать единичным, противопоставляемым остальному (и это было христианство в его ранней форме); в третий объединяется с единичным (христианство в его завершенной форме). Но рассматривать вещи таким образом значило бы, говорит Гегель, превзойти нашу актуальную феноменологическую точку зрения; поскольку мы должны рассматривать лишь неизменность сознания, неизменность, находящуюся под воздействием противоречия, а не истинную неизменность в себе и для себя, то последняя для нас еще не появилась. Единственное, что нас касается, — это знание о том, что определения, которые мы обозначили как связанные с неизменным, «являются для сознания» и являются ему как «связанные с неизменным».
По этой причине, следовательно, и неизменное сознание в самом своем формообразовании сохраняет характер и основу раздвоенности и для — себя — бытия по отношению к единичному сознанию. Поэтому для последнего вообще является событием, что неизменное приобретает форму единичности подобно тому, как себя единичное сознание лишь находит противоположным неизменному, и, следовательно, это отношение у него от природы. Хотя, с одной стороны, то обстоятельство, что сознание, наконец, находит себя в нем, порождено, как ему кажется, им самим или имеет место потому, что сознание само единично, все же другая сторона этого единства, как ему кажется, принадлежит неизменному и по своему происхождению, и постольку, поскольку это единство существует, а противоположность остается в самом этом единстве. На деле благодаря тому, что неизменное приобретает внешний облик, момент потустороннего не только остался, но еще больше укрепился; ибо если, с одной стороны, благодаря виду, который принимает единичная действительность, неизменное как будто приблизилось к сознанию, то, с другой стороны, оно противостоит отныне сознанию как некое непрозрачное чувственное «одно» со всей хрупкостью того, что действительно; надежда слиться с ним в одно должна оставаться надеждой, т. е. должна остаться неосуществленной и не претворенной в действительность: ибо между надеждой и осуществлением стоит не что иное, как абсолютная случайность или неподвижное равнодушие, которое содержится в самом приобретении внешнего облика, в том, что обосновывает надежду. Благодаря природе сущего «одного», благодаря действительности, в которую оно облечено, необходимо получается, что оно исчезло во времени, было в пространстве и вдали и остается просто вдали .
Неизменность, как мы сказали, остается запятнанной противоречием. Так же, как и единичное сознание, когда мы исследуем его в его связях с неизменным, изображается как разделенное и как существующее для себя, неизменное, со своей стороны, когда его рассматривают в тот момент, когда оно принимает форму единичного, имеет двойственные признаки — оно является разделенным и существует для себя. На самом деле, понимая единичное сознание как нечто иное, нежели оно само, оно тем самым представляет и себя как нечто иное, чем единичное сознание, и как сущее для себя; и будучи для себя целым миром, таким же, как и сознание для себя, неизменное видит, что оно разделено на две части так же, как единичное сознание это чувствовало. Монистический идеализм неизменного, как и монистический идеализм сознания, приводит к представлению о двойственности, свойственной и тому и другому. Иисус чувствует себя отделенным от людей и отделенным от Бога.
Следовательно, когда неизменное принимает форму единичности, то именно перед глазами сознания происходит то естественное событие, перед которым оно «оказывается»; когда оно видит себя в первый момент как противоположное неизменному, то именно для сознания совершается открытие внешнего факта; и когда, во второй момент, это сознание присутствует при полном примирении индивидуальности и неизменности, разумеется, именно для него здесь существует тот факт, «частичной причиной которого оно является», и который объясняется своей природой индивидуального бытия; но согласно тому, что мы сказали об этой фундаментальной противоположности, единство с неизменным предстает перед ним как частично подчиненное неизменному: и следовательно, в этом единстве остается противоположность, поскольку это единство имеет свой источник и свою движущую силу в каждом из двух противоположных терминов. Христианство, каким оно было дано исторически, предполагает два фактора: оба, и индивид, и Бог, частично обладают инициативой; благодаря этому христианство остается разделенным даже в момент своего единства и замыкается в сфере фактов. В нем остается элемент той противоположности, который характеризует иудаизм, и именно в том факте, что благодать, в сущности, исходит вначале от Бога, а не от Бога и сознания, эта противоположность и демонстрируется. И в нем остается фактический элемент, элемент чувственной реальности, который связан с элементом противоположности. Если христианский Бог умирает, то частично дело в том, что разум христианина не живет полной жизнью, поскольку он нуждается в том, чтобы быть оживленным благодатью.
Благодаря тому факту, что неизменное принимает форму, момент потустороннего, вместо того чтобы исчезнуть, «напротив, укрепляется»; иначе говоря, христианство вынуждает нас прийти к истинной имманенции. И это можно было предвидеть благодаря тому факту, который мы только что констатировали, а именно, что внутри единства остается противоположность; это не могло не произойти, поскольку, как мы ранее видели, нас занимает лишь неизменное, рассматриваемое сознанием, каким оно является на стадии развития, то есть неизменное, запятнанное противоречием. Разумеется, посредством воплощения оно сближается с сознанием, оно объединяется с ним; но, с другой стороны, результатом воплощения стало его противопоставление единичному сознанию как единичному, чувственному, непроницаемому, прочному, упрямому единству . Следовательно, надежда стать с ним единым остается надеждой, она не может осуществиться в настоящем и может быть лишь разновидностью пустой формы, видимой на расстоянии: существует элемент «радикальной случайности», «навязчивого безразличия», исходящего как раз от того факта, который дает рождение надежде, от того факта, что неизменное, вступающее в существование, принимает определенную форму и является чистым фактом. Быть единым с тем единым, которое противоположно, — это нечто невозможное. Единство неизбежно является чем‑то исчезающим, тем, что исчезает во времени, и тем, что удаляется в пространстве. Но это удаление в пространстве и во времени является лишь незавершенным опосредствованием. Сознание знает тогда лишь одного Мессию или лишь одного мертвого Христа, умершего в далекой стране; никогда оно не сможет соединиться с индивидуальным неизменным, с живым Христом. И именно потому, что это единое приняло характер реальности, и что оно подчинено тем самым диалектике «здесь» и «теперь», той, что была обоснована в первой части Феноменологии. С того момента, как это единое есть, скорее, следует говорить, что оно было. Приближаясь к нам, снисходя до нас, Бог в то же самое время удаляется. Сознание еще не освобождается от идеи объекта. И мы имеем перед собой связь, которая еще не является достаточно глубокой, связь между чувственным непосредственным и всеобщностью. Здесь остается потустороннее, отделенное от посюстороннего. Третья стадия, стадия, где единство осуществляется, будет возможна лишь потому, что вместо того, чтобы иметь это , мы будем иметь Разум. В каком‑то отношении Бог слишком снизошел после того, как оставался слишком высоко над нами. В обоих случаях он остается далеким — как прежний земной Иерусалим уже не так легко доступен, как Иерусалим небесный, так и Богом, который умер, не так легко обладать, как Богом, который не знал жизни.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: