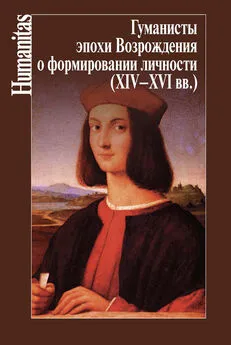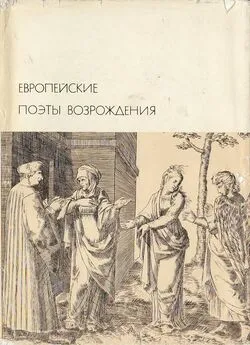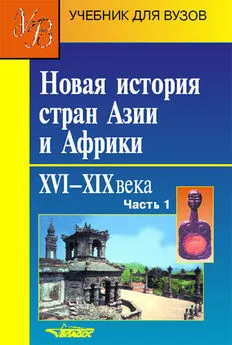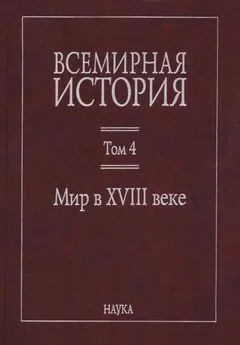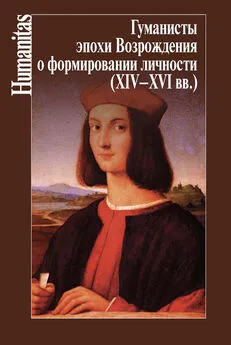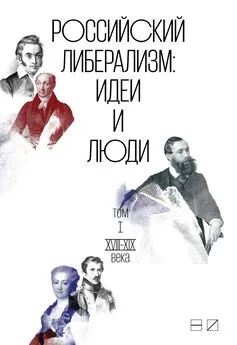Коллектив авторов - Гуманисты эпохи Возрождения о формировании личности (XIV–XVII вв.)
- Название:Гуманисты эпохи Возрождения о формировании личности (XIV–XVII вв.)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Когито-Центр»881f530e-013a-102c-99a2-0288a49f2f10
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98712-175-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Гуманисты эпохи Возрождения о формировании личности (XIV–XVII вв.) краткое содержание
Книга дает возможность проследить становление и развитие взглядов гуманистов Возрождения на человека и его воспитание, составить представление о том, как мыслители эпохи Возрождения оценивали человека, его положение и предназначение в мире, какие пути они предусматривали для его целенаправленного формирования в качестве разносторонне развитой и нравственно ответственной личности. Ряд документов посвящен педагогам, в своей деятельности руководствовавшимся гуманистическими представлениями о человеке.
Книга обращена к широкому кругу читателей.
Гуманисты эпохи Возрождения о формировании личности (XIV–XVII вв.) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Здесь мессер Бернардо Биббиена [264]не выдержал и сказал:
– Вот и нашелся человек, который одобрит манеру танца нашего мессера Роберто [265], ибо все остальные, кажется, не обратили на нее внимание. Если означенное совершенство проявляется в раскованности (sprezzatura), когда всем видом своим показывают, что не придают значения тому, чем заняты, и думают о чем угодно другом, то тогда в танцах равного мессеру Роберто не сыщется в целом свете. Желая ясно показать, что он не думает о танце, он часто позволяет накидке соскользнуть с плеч, а туфлям с ног и, не подбирая их, так и продолжает танцевать.
Тогда Граф ответил:
– Если вы хотите, чтобы я продолжал, скажу еще о наших недостатках. Разве вы не видите, что то, что у мессера Роберто вы именуете раскованностью, есть самая настоящая аффектация? Ведь совершенно очевидно, что он изо всех сил старается казаться беззаботным, а это и есть проявление чрезмерной озабоченности. И поскольку он преступает, несомненно, границы умеренности, то его раскованность аффектирована и производит дурное впечатление. Выходит как раз противоположное тому, на что надеялись, а именно: скрыть искусство. Посему я не думаю, что аффектация менее порочна в раскованности (которая сама по себе похвальна), когда одежде позволяют валиться с плеч, нежели в [стремлении к] элегантности (которая сама по себе тоже достойна хвалы), когда голову держат слишком твердо из боязни испортить прическу, или в подкладке головного убора носят зеркальце, а в обшлаге – гребешок, и на улицах появляются обязательно в сопровождении пажа с полотенцем и щеткой. Ибо такого рода элегантность и раскованность слишком близки к крайности. А это всегда плохо, ибо несовместимо с той безыскусной и чарующей простотой, которая столь располагает к себе души людей. Посмотрите, какое неуклюжее впечатление производит наездник, стараясь в седле держаться прямо или, как у нас принято говорить, на венецианский манер, в сравнении с другим, который, похоже, не задумываясь об этом, на коне чувствует себя так непринужденно и уверенно, словно стоит на земле. Насколько привлекательнее и почтеннее дворянин, что носит оружие, но при этом прост, скромен в речах и не кичлив, нежели другой, который только и знает хвалить себя да изрыгая угрозы и ругательства делать вид, что бросает вызов всему миру! Что это, если не аффектированное желание выглядеть неустрашимым. <���…>
В науках он [Придворный] должен быть образован более чем удовлетворительно, по крайней мере в тех, которые мы зовем гуманитарными, он должен иметь познание не только в латинском, но и в греческом языке, ибо на нем прекрасно написано о многоразличных вещах. Пусть он будет начитан в поэтах и не менее в ораторах и историках, а сверх того искусно пишет прозой и стихами, в особенности на нашем народном языке, ибо, помимо удовольствия, он всегда будет иметь возможность занимать приятными разговорами дам, которые обыкновенно любят подобные вещи. Если же из-за других дел или недостаточной подготовки он не достигнет совершенства, которое снискало бы его творениям большое одобрение, пусть он предусмотрительно их схоронит, дабы не давать другим повода для насмешек над собой, и показывает их только другу, которому можно доверять. По крайней мере, сии упражнения будут ему полезны, так как он научится судить о чужих произведениях, что на самом деле бывает нечасто; ведь кто не приучен писать, то, сколь образован ни был бы, он никогда не сможет надлежащим образом оценить труд и умение писателей, ощутить прелесть и совершенство стиля и ту потаенную красоту, которую часто находят у древних. Более того, занятия сии сделают его красноречивым и, как ответил Аристипп некоему тирану, смелым, дабы говорить уверенно с кем угодно [266]. Тем не менее я бы хотел, чтобы наш Придворный твердо держался одного правила, а именно: пусть в этом отношении и во всех других он всегда будет человеком скорее осторожным и скромным, нежели дерзким, и остерегается ложно мнить о себе, будто он знает то, что ему не известно. Ибо от природы все мы много более, чем следовало бы, ищем похвал, и ни одна красивая песня, ни один звук не услаждает наш слух так, как мелодия речей, в которых звучит нам похвала; поэтому они являются часто, подобно голосам Сирен, причиной гибели того, кто не замкнул свой слух для столь опасного сладкозвучия. Предвидя эту опасность, некоторые мудрые люди древности сочинили книги на тему, как отличить льстеца от друга. Но кому это пошло на пользу, если находится много, даже бесконечно много людей, которые отчетливо видят, как им льстят, и тем не менее отдают предпочтение льстецам и не выносят тех, кто говорит правду? И часто, когда кажется, что расхваливающий их не очень-то речист, они сами начинают ему помогать, говоря о себе такие вещи, коих устыдился бы даже самый беззастенчивый льстец. Но оставим этих слепцов пребывать в их неведении, наш же Придворный пусть обладает верным суждением и не позволяет убедить себя принять черное за белое и мнить о себе такое, в совершенной истинности чего он не был бы вполне уверен. <���…> Более того, чтобы не ошибиться, – даже хорошо зная, что похвалы ему воздаются неложные, – пусть он на них не соглашается и не принимает без тени смущения как сами собой разумеющиеся; но пусть он скорее их скромно как бы отвергнет, каждый раз показывая, что он в действительности считает своим главным занятием военное дело и [лишь] служащими украшению оного все другие достоинства. И прежде всего перед воинами пусть он не поступает вроде тех, которые в образованном кругу корчат из себя воинов, а между воинами – людей, преданных научным занятиям. Таким именно образом по соображениям, нами уже указанным, он избежит аффектации, и даже самые заурядные вещи, которые он совершит, будут выглядеть весьма значительными.
<���…> Граф продолжал:
– Синьоры, имейте в виду, что я не буду доволен Придворным, если он не будет также и музыкантом и не сумеет не только воспринимать на слух и петь по нотам, но и играть на разных инструментах. Потому что если подумать хорошенько, то не сыскать никакого отдыха от трудов, никакого лекарства от хворей души более похвального и благопристойного, чем музыка. Особенно при дворах, где музыка не только дает каждому избавление от скуки, но и в ряду многого другого доставляет удовольствие дамам, в души которых, нежные и податливые, легко проникает гармония, наполняя их сладостью. Неудивительно поэтому, что и в прошлом и теперь они всегда были расположены к музыкантам и находили в музыке наиприятнейшую пищу для души. <���…> Помнится, как-то я слышал, что Платон и Аристотель требовали от человека, должным образом воспитанного, быть также и музыкантом [267], многими доводами доказывая, сколь велика власть музыки, которую по целому ряду причин – излагать их сейчас заняло бы много времени – совершенно необходимо изучать с детства: не столько ради мелодии, которую мы слышим, сколько ради того, что она в состоянии выработать в нас самих новый и благой склад характера, нрав, питающий наклонность к добродетели и делающий душу более восприимчивой к счастью, подобно тому, как упражнения тела делают его более крепким; и она не только не вредна в делах гражданских и военных, но бывает крайне в них полезна. Даже Ликург в своем суровом законодательстве дозволяет занятия музыкой [268]. И мы читаем, что воинственные лакедемоняне и критяне шли сражаться под аккомпанемент лир и других нежно звучащих инструментов [269]; что многие прославленные полководцы древности, вроде Эпаминонда, занимались музыкой; что те, кто в ней не разумел, как Фемистокл, почитались много меньше [270]. Разве вы не читали, что среди самых первых предметов, коим обучал старый добрый Хирон юного Ахилла, воспитывая его чуть ли не с колыбели, была музыка [271]? И что мудрый наставник распорядился, дабы руки, которым суждено пролить так много троянской крови, бывали подолгу заняты игрой на лире? Итак, разве найдется воин, который устыдился бы подражать Ахиллу, не говоря уже о многих других прославленных полководцах, на которых я мог бы сослаться? Поэтому не надо лишать нашего Придворного музыки, которой не только смягчаются души людские, но нередко укрощаются даже дикие звери [272]; и если кому она не нравится, то с определенностью можно заключить, что в душе его нет согласия. О могуществе музыки вы можете судить уже потому, что завороженная ею рыбина позволила человеку проехать на себе верхом по бушующему морю [273]. Мы видим, как ее используют в священных храмах, когда возносят хвалу и благодарность Богу; и следует верить, что она приятна Ему и что Он даровал ее нам в качестве сладостного отдохновения от дел и забот наших. Недаром, трудясь в поле под лучами палящего солнца, привычные ко всему работники часто заглушают свою тоску грубым деревенским пением. Им отгоняет сон и скрашивает свой труд простая крестьянка, еще до рассвета встающая, чтобы прясть или ткать. Оно же является приятнейшим развлечением для бедных моряков после перенесенных бурь, ливней, ветров. В этом находят облегчение утомленные путники во время долгих изматывающих путешествий, а зачастую и – узники, томящиеся в кандалах и оковах. Но главное доказательство того, что музыкальный напев, пусть даже неотделенный, служит величайшим утешением во всех трудах и тяготах людских, дают кормилицы, наученные природой ему в качестве первейшего средства от бесконечного плача младенцев, которые под звуки их голосов засыпают успокоенными и умиротворенными, забывая о столь свойственных им слезах, которые в этом возрасте природа дала нам как предвестие о конце нашей жизни.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: