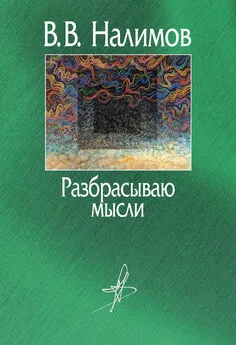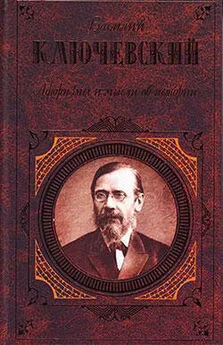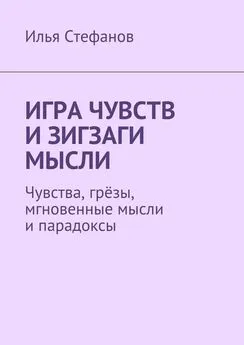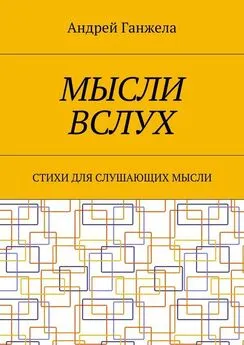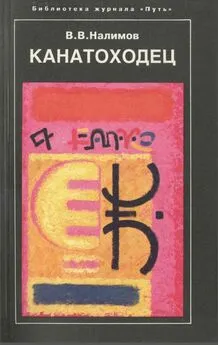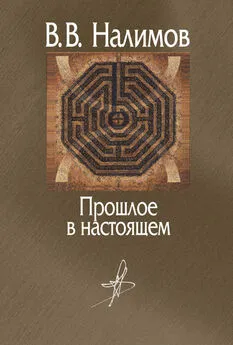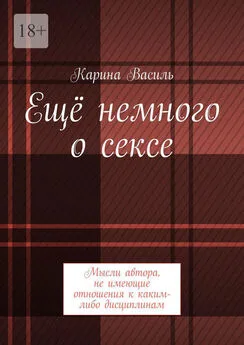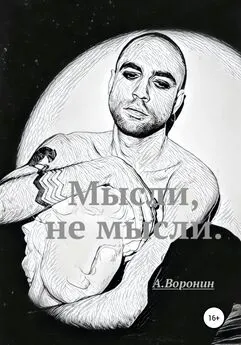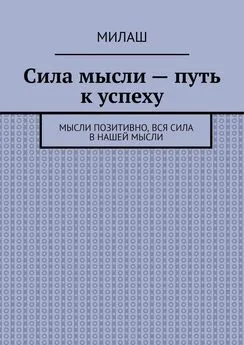Василий Налимов - Разбрасываю мысли
- Название:Разбрасываю мысли
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «ЦГИ»2598f116-7d73-11e5-a499-0025905a088e
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98712-521-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Налимов - Разбрасываю мысли краткое содержание
Автор приглашает читателя к размышлениям на философские темы, касающиеся сущности мира и человека, к творческому поиску в пространстве смыслов, устремленных к потенциальному богатству Будущего. Основные темы книги: смысловая природа личности, вероятностная модель сознания, биологический эволюционизм как творческий процесс, мир как геометрия и мера, философское запредельное – проблема личностной теологии.
Методологическое умение автора позволяет ему соединять области рационального и нерационального, открывая новые перспективы и методы постановки вопросов. Он ведет читателя по разным уровням и лабиринтам реальности, непрерывно расширяя «географию» этого интеллектуального путешествия, направленного на то, чтобы «постичь Вселенной внутреннюю связь».
Разбрасываю мысли - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Глубоко абстрактное – символическое описание эволюции сохраняет за биологией статус дескриптивной науки, не редуцируемой к физико-химическим явлениям. Написанное здесь можно рассматривать как попытку ответить на призыв Г.Г. Винберга [1981] дать математическую модель, несущую ту многозадачность, которая отражает многообразие проявлений жизни:
…Эта многозначность, отражающая многообразие проявлений жизни и их зависимость от окружающей среды, затрудняет необходимую для применения математических методов формализацию биологических понятий без чрезмерного обеднения их содержания. Такое затруднение должно быть осознано и преодолено путем разработки адекватных биологическим системам математических построений (с. 10).
Благодаря специфическим объектам биологии – каждый из которых неповторимый и уникальный итог деятельности адаптивной эволюции – и своеобразию методов исследования, среди которых… видное место должно принадлежать дескриптивному методу, теоретическая биология существенно отличается от теории физики и других наук о неживой природе…
Упрощенное представление о методологии биологии, игнорирование ее отличий от методологии науки о неживой природе препятствует должной организации биологических исследований и созданию новых методов, в их числе математических, адекватных специфичной особенности иного мира – многообразию форм проявления жизни (с. 11).
Наш ответ Винбергу: математическая модель, сохраняющая дескриптивный характер биологической науки и отражающая все многообразие форм проявления жизни, может быть построена через число , упорядочиваемое в вероятностное пространство . Но устроит ли биолога такой ответ?
Отметим, что обращение к представлению о формообразовании как о распаковке морфофизиологического континуума – это не более чем попытка найти образ для той потенциальной формы, которая ответственна за онтогенез. Общей теории онтогенеза до сих пор нет [Голубовский, 1982 а]. Здесь мы, по-видимому, идем по пути, намеченному еще А.А. Любищевым. Для него, как отмечает Голубовский, ген был прежде всего потенциальной формой:
Любищев показывает, что введение понятия потенциальной формы, пусть в качестве научной фикции, позволит освободиться от узко механистических представлений и даст теоретическую основу для математического подхода к морфологии и морфогении (с. 57).
Что мы можем сказать о природе морфофизиологического континуума? Было бы, наверное, опрометчиво полагать, что это всего лишь наш логически построенный конструкт. Сознание человека породило изысканные геометрические представления как для понимания Мира, так и для понимания самого себя. И почему тогда не допустить, что сама природа, порождая многообразие форм – построений чисто геометрических, – не опирается на геометрически задаваемую потенциальность? [104]
Наши суждения о морфогенетическом континууме удивительным образом перекликаются с высказываниями Левонтина о несостоятельности дискретных представлений в генетике. Обсуждая вопрос о размерности эволюционного пространства, он пишет [Lewontin, 1970]:
Теперь, однако, хотелось бы утверждать, что число локусов является нерелевантным и даже, в известном смысле, незначимым. Если хромосому рассматривать как континуум, то тогда хромосомные «типы» больше не являются счетным множеством и мы должны полностью пересмотреть наши теоретические построения. Мы фактически нуждаемся в континуальной теории популяционной генетики, чтобы иметь дело с хромосомным континуумом… Теория популяционной генетики «без гена» позволит нам для начала оформить научные наблюдения за природой в строгую теорию (с. 71).
Не будучи специалистом в области генетики, я не беру на себя смелость обсуждать это высказывание по существу.
В поисках отличия живого от неживого мы опять готовы обращаться к геометрическому видению Мира. Элементы неживого мира – атомы или молекулы – становятся элементами живого, как только они начинают входить в некий паттерн, открытый воздействию вероятностного пространства морфофизиологической ориентации. Быть в состоянии соприкосновения с этим пространством – это иметь возможность откликаться на изменение в системе вероятностно взвешенных оценок. В этом, если хотите, можно усматривать уже зачатки сознания, рассматривая морфофизиологическое поле как семантическое поле мира живого. Живое в своем развитии оказывается, в соответствии с силлогизмом Бейеса, носителем рудиментов сознания. Так звучит наш ответ на вопрос Г. Патти [1970]: как у молекулярно-биологических структур появляются конкретные биологические функции. Мы как раз и предлагаем то символическое описание эволюции, которое дополняет чисто физическое, атомно-молекулярное описание.
Теперь несколько слов о Времени. Время само по себе не измеримо – это хорошо понял еще Плотин (см. [Nalimov, 1982]). Иллюзорное представление о его измеримости возникает тогда, когда появляется наблюдатель , обладающий часами. Если мы можем представить себе мир, в котором ничего нет, то в нем нет ни часов, ни – соответственно – Времени. Часы – это тот аспект проявленности Мира, который позволяет наблюдателю конструировать свое представление о Времени. Но проявленность Мира дается через тексты – такими словами мы начали эту работу, и, если продолжать говорить на этом языке, то Время для нас оказывается просто грамматикой текстов Мира (подробнее эту мысль мы уже развивали в [Nalimov, 1982]). Таким образом, перед нами синонимические пары: Текст – Часы, Грамматика текста – Время .
Наше обыденное представление о Времени сконструировано нами на основании наблюдения за всем многообразием различных, но в первом приближении достаточно хорошо согласованных между собой астрономических часов [105]. Но сам наблюдатель – человек, наблюдающий за астрономическими часами, обладает также и собственными часами, механизм работы которых мы объясняли в книге [Nalimov, 1982], также исходя из элементарных геометрических соображений. Если опираться на представление о многомерности личности, то надо допускать наличие множества собственных времен. Наблюдая за миром живого, исследователь сталкивается с набором текстов, выступающих в виде несогласованных между собой часов: это, скажем, особи, виды, старшие таксоны, биоценоз и собственно эволюционный процесс, каждое его частное проявление – это свои особые часы. То же самое, по-видимому, можно сказать и о геологическом времени – именно так, наверное, надо понимать приведенное выше высказывание С.В. Мейена (см. с. 143, п. 6).
Наша модель собственного биологического Времени нацелена на то, чтобы дать естественную для нашего видения Мира геометро-динамическую интерпретацию биологических часов. Оказалось, что из нее с необходимостью следует, что в мире живого Времен должно быть много, очень много, – они должны быть неоднородными [106]и потому несогласованными. Это высказывание скорее всего носит чисто гипотетический или, может быть, даже натурфилософский характер – вряд ли его можно проверить инструментально.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: