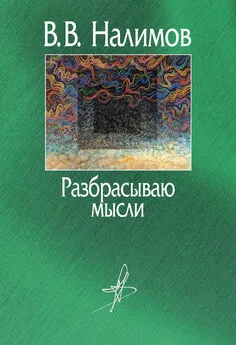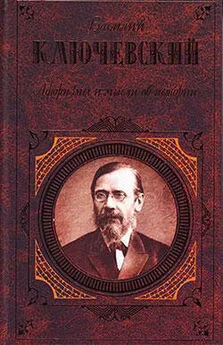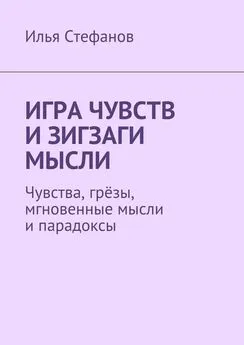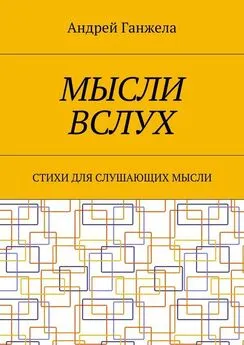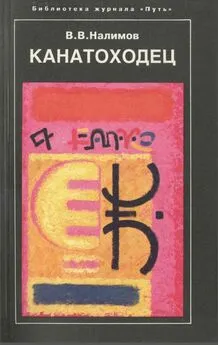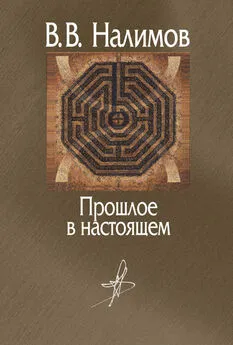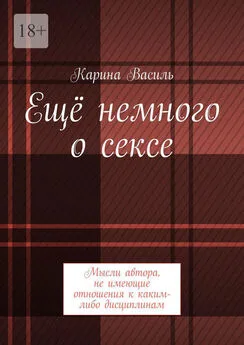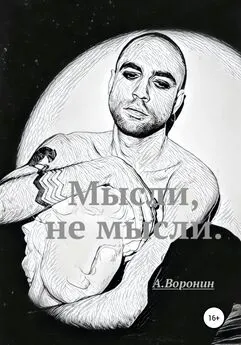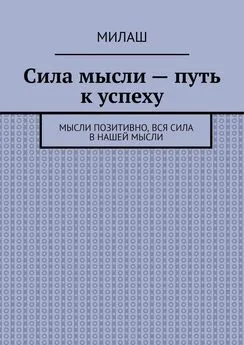Василий Налимов - Разбрасываю мысли
- Название:Разбрасываю мысли
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «ЦГИ»2598f116-7d73-11e5-a499-0025905a088e
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98712-521-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Налимов - Разбрасываю мысли краткое содержание
Автор приглашает читателя к размышлениям на философские темы, касающиеся сущности мира и человека, к творческому поиску в пространстве смыслов, устремленных к потенциальному богатству Будущего. Основные темы книги: смысловая природа личности, вероятностная модель сознания, биологический эволюционизм как творческий процесс, мир как геометрия и мера, философское запредельное – проблема личностной теологии.
Методологическое умение автора позволяет ему соединять области рационального и нерационального, открывая новые перспективы и методы постановки вопросов. Он ведет читателя по разным уровням и лабиринтам реальности, непрерывно расширяя «географию» этого интеллектуального путешествия, направленного на то, чтобы «постичь Вселенной внутреннюю связь».
Разбрасываю мысли - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Если Бог для нас тайна, тайной является и человек, задумавшийся о Боге. Мы обречены стоять перед тайной. В этом величие человека.
III. Отношение к исходным текстам
Здесь все непросто.
Где, когда и кем были записаны исходные тексты? Каким искажениям они были подвергнуты во имя сближения с ранее установившейся религиозной традицией? Образуют ли тексты единое семантическое поле? Расщепляются ли тексты на отдельные слои, отвечающие, с одной стороны, специфическим интересам древнейшей палестинской общины, с другой – нарождающейся церкви? Легко ли выделяются позднейшие вставки? Что и почему было отброшено в процессе становления Церкви как государственного института?
Интересна позиция Р. Бультманна [161]. Вот фрагмент его высказывания на эту тему [1992 а]:
Если нам весьма мало известно о жизни и личности Иисуса, то о его провозвестии мы знаем достаточно много и можем составить о нем относительно связное представление. Однако и здесь, кстати, учитывая характер наших источников, необходима крайняя осторожность. Ведь тот материал, который предлагают нам источники , есть в первую очередь возвещение общины, которое все же большей своей частью восходит к провозвестию Иисуса [162]. Но это никоим образом не доказывает, что все слова, вкладываемые общиной в уста Иисуса, были в самом деле им произнесены. Для многих изречений можно привести доказательства, подтверждающие, что эти слова возникли в общине, для других – что они претерпели в общине переработку. Критическое исследование показывает, что все предание об Иисусе, содержащееся в трех синоптических евангелиях Матфея, Марка и Луки, распадается на ряд слоев, которые в первом приближении могут быть надежно отделены друг от друга, однако такое разделение в некоторых деталях весьма затруднительно и вызывает сомнения. Евангелие Иоанна вообще, пожалуй, не может рассматриваться как источник для провозвестия Иисуса и потому в дальнейшем не учитывается… критический анализ показывает, что существенная часть этих трех евангелий была в свою очередь заимствована из арамейской традиции древнейшей палестинской общины. Причем среди этого материала также выявляются разные слои, и, например, то что выдает специфические интересы общины или несет черты дальнейшего развития, должно быть отброшено в силу вторичности происхождения. Таким путем, используя критический анализ, можно добраться до древнейшего слоя, хотя и его можно вычленить лишь с относительной достоверностью (с. 8–9).
Столь большая цитата приведена здесь для того, чтобы показать, что и к анализу религиозных текстов можно подойти строго, по сути научно. Это само по себе представляется весьма существенным – может быть, это первый серьезный шаг, направленный на сближение теологических построений с научной ответственностью.
И все-таки многое здесь остается неясным. Почему, скажем, Евангелие Иоанна исключено из рассмотрения совместно с синоптическими Евангелиями? Они существенно различны, но как раз именно поэтому сравнение их может быть особенно интересным. Непонятно также, почему теологи отказываются от рассмотрения апокрифических Евангелий [163]совместно с новозаветными Евангелиями?
Становление христианства несомненно шло в суровой борьбе. Вот как Бультманн описывает тогдашнее состояние еврейского народа [там же]:
Итак, это был народ, наделенный могучей жизненной силой, сильнейшими природными инстинктами, исключительной моральной энергией и тончайшими интеллектуальными способностями и все же существовавший не совсем так, как прочие народы на земле. Закон и обетование определяют жизнь этого народа, послушание и надежда наполняют ее смыслом. Закон – не право, возникшее из конкретных жизненных обстоятельств, рационально обоснованное и дифференцированное, Закон вырос из древних, давно уже отмерших и часто даже непонятных социальных условий и культовых мотивов, это Закон искусственно законсервированный, казуистически обновляемый и толкуемый (с. 10–11).
Отголоски этого Закона дошли до нас и в виде редакторской правки исходных текстов. Руководители мистического анархизма хорошо это поняли еще в 20-е годы. Нам – адептам – рекомендовалось оценивать подлинность текстов путем личных размышлений и медитаций [164]. Затем на коллективных встречах обсуждались оценки, сделанные каждым. Критицизм и смелость суждений приветствовались.
Теперь все это кажется несколько наивным. Но тем не менее, в плане историческом, личностная смысловая оценка оказалась преддверием систематических исследований Бультманна. Имели ли оба подхода какие-то общие корни – кто знает?
Напомним, что еще много раньше подошел к этой проблеме Л.Н. Толстой, давший свой соединительный перевод четырех Евангелий [1906].
Интересна позиция П.А. Флоренского [1914]. Для него « истина есть противоречие » и, соответственно, «чем ближе к Богу, тем отчетливее противоречия» (с. 158). Конечно, мысль в своих глубинах не укладывается в логику Аристотеля [Налимов, 1989]. Но отсюда еще не следует, что можно жить в системе грубых противостояний, вызванных наложением двух позиций – ветхозаветной и новозаветной. На Западе, и прежде всего в Германии, наметилась тенденция археологической значимости – раскапывается в христианстве то, что ушло непосредственно из поля нашего зрения.
IV. Иисус – что мы знаем о нем?
Действительно ли Иисус был плотником из Назарета?
Трудно в это поверить. Автор евангельских речений выступает перед нами как проповедник, обладающий высокой степенью своеобразных знаний, особенно если ему принадлежат и апокрифические тексты.
В русском тамплиерстве, скрывавшемся под названием «мистический анархизм», как мне известно, бытовало представление об Иисусе как о посланце храмов Египта. Что-то похожее иногда проскальзывает и в высказываниях Р. Бультманна [1992 а].
Он подчеркивает, что мы мало, совсем мало знаем о жизни Иисуса, и говорит о том, что это обстоятельство ставит в особые условия тех, кто хочет понять истоки христианства.
Вот относящиеся сюда цитаты:
Итак, я хочу в принципе подвести читателя не к « рассмотрению истории », а к предельно личной встрече с историей (с. 5).
…О личности Иисуса мы практически ничего не знаем (с. 6).
…Предметом моего исследования, как уже говорилось, является не жизнь и не личность Иисуса, а только его «учение», его провозвестие (с. 8).
Если же для кого-нибудь «Иисус» всегда воспринимается в кавычках и является лишь условным знаком для изучаемого нами исторического явления, то это не возбраняется (с. 9).
Вот как будто он въезжает в Иерусалим, окруженный своими пламенными сторонниками; все ликуют, все убеждены – вот-вот начнется Владычество Бога; все это очень похоже на толпу, которую египетский пророк хотел вести на Иерусалим (с. 17).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: