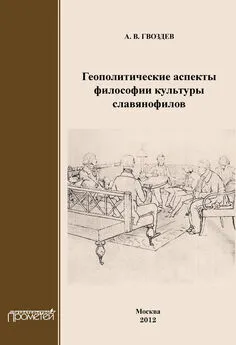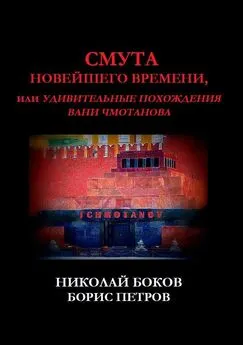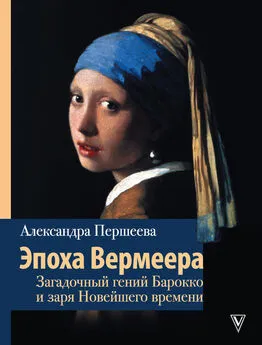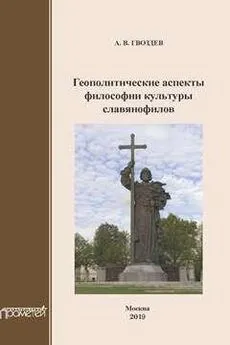Андрей Гвоздев - Православно-славянская цивилизация в геополитических учениях Новейшего времени
- Название:Православно-славянская цивилизация в геополитических учениях Новейшего времени
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прометей
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9907452-0-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Гвоздев - Православно-славянская цивилизация в геополитических учениях Новейшего времени краткое содержание
В монографии рассматриваются концепции православно-славянской цивилизации О. Шпенглера, А. Тойнби, С. Хантингтона. Евразийская доктрина представлена взглядами Н. С. Трубецкого. Современные геополитические дискуссии включают в себя идеи А. С. Панарина, А. Г. Дугина и многих других. Вопрос о цивилизационной идентичности России изучается в контексте геокультуры. Особое внимание уделяется актуальности наследия славянофилов и влиянию идеологии неоевразийства на современную политику. Также автор делает попытку определить перспективы православно-славянской цивилизации в настоящий момент.
Православно-славянская цивилизация в геополитических учениях Новейшего времени - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Основным этническим элементом, основой русской культуры Трубецкой считает славянство. Восточные славяне имели возможность выбирать между западным и византийским влиянием. Выбор в пользу Византии дал благодатные результаты. «Все получаемое из Византии усваивалось органически и служило образцом для творчества, приспособлявшего все эти элементы к требованиям национальной психики. Это относится особенно к области духовной культуры, к искусству и религиозной жизни. Наоборот, все получаемое с „Запада“ органически не усваивалось, не вдохновляло национального творчества» [155] Трубецкой Н. С. К проблеме русского самопознания. С. 126.
. В народную традицию активно проникало византийское православие и органично видоизменялось под действием русской среды.
Реформы Петра, по мнению Трубецкого, выбили Россию из колеи успешного развития в византийском духе и выбросили ее на задворки цивилизации. «Отсутствие некоторых первостепенно важных для романогерманцев психологических способностей давало себя чувствовать на каждом шагу» [156] Трубецкой Н. С. К проблеме русского самопознания. С. 127.
. Количество гениальных творений в культуре явно уступало заимствованиям и подражаниям.
Положение дел в России Трубецкой иллюстрирует при помощи образа здания, где народная культура – нижний этаж, а культура образованных слоев общества – этаж верхний. Для прочности постройки необходимо, чтобы между верхом и низом было соответствие. «Пока здание русской культуры завершалось византийским куполом, такая устойчивость существовала. Но с тех пор, как этот купол стал заменяться верхним этажом романо-германской конструкции, всякая устойчивость и соразмерность частей здания утратилась, верх стал все более и более накреняться и наконец рухнул…» [157] Трубецкой Н. С. К проблеме русского самопознания. С. 133.
. Обвал здания, по Трубецкому, это революция, закономерный конец романо-германского влияния. Он решительно отвергает попытки строить новый «верх» русской культуры по романо-германскому образцу. Однако он считает, что и «византийский купол» восстанавливать бессмысленно, так как византизм в народной стихии был до неузнаваемости переработан и уже в XVII в. во время реформ патриарха Никона был воспринят как иноземное влияние, что вызвало раскол. «Но в путях раскола все-таки чувствуется проявление здорового национального инстинкта русской стихии, протестующей против искусственно надетого на нее чужого культурного верха» [158] Трубецкой Н. С. К проблеме русского самопознания. С. 134.
. Выход видится Трубецкому в культивировании православия, сообразного «нашей национальной психике», и объединении с туранскими племенами, исторически связанными с судьбой русского народа.
Здесь уместно вернуться к славянофилам, которых Трубецкой критиковал за преданность отжившим культурным ценностям. Получается, что таковым пережитком является учение православной церкви, выраженное в святоотеческом наследии, за которое ратовали славянофилы. Вопреки расхожему мнению, славянофилы шли от православия к народу, а не наоборот. И. С. Аксаков писал, что И. В. Киреевский «точно обратился от философии к православию, но не вследствие стараний добиться сближения с русским народом, а путем строго научного искания истины, путем философского анализа систем западноевропейской философии, и также вследствие живого, почти случайного столкновения с некоторыми проявлениями русской религиозной жизни» [159] Аксаков И. С. Письмо к издателю по поводу предыдущей статьи. // Русский архив, 1873. Кн. 2. С. 2521–2522.
.
Русский народ был дорог славянофилам тем, что его нравы, обычаи и быт в большей мере, чем в образованном сословии, были выстроены по заветам отцов церкви. «Бесчисленное множество этих маленьких миров, составлявших Россию, было все покрыто сетью церквей, монастырей, жилищ уединенных отшельников, откуда постоянно распространялись повсюду одинакие понятия об отношениях общественных и частных. Понятия эти мало-помалу должны были переходить в общее убеждение, убеждение – в обычай, который заменял закон, устраивая по всему пространству земель, подвластных нашей церкви, одну мысль, один взгляд, одно стремление, один порядок жизни» [160] Киреевский И. В. В ответ А. С. Хомякову // Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 40.
.
Таким образом, религия у славянофилов – это базис, на котором строится частная и общественная жизнь, а не тема для развития народной стихии. Чем вера ближе к святоотеческому образцу, тем она чище и ценнее. Славянофилы не сочувствовали двоеверию, обрядоверию, раскольничеству, сектантству и другим проявлениям народного своеволия в религии.
Напротив, для Трубецкого ценна не сама православная вера, основанная на каноне, а результат самобытного ее изменения. Здесь мы встречаемся с примером «редукции культуры», о которой писал С. С. Хоружий. Если самобытность становится выше предания, то религия может быть заменена на мифологию или идеологическую химеру. Как заметил Г. В. Флоровский, «в евразийской „феноменологии“ русской современности для Церкви места нет» [161] Флоровский Г. В. Евразийский соблазн // Новый мир. 1991. № 1. С. 208.
.
Вместе с тем, как утверждает Трубецкой, славянский элемент в «низовой» русской культуре не только не единственный, но и не определяющий. Эта сопротивляемость восточных славян к влиянию западной культуры усилилась благодаря смешению с угро-финнами и тюрками. Тюрки Волжского бассейна соприкасаются со «степной» культурой тюрко-монголов, а те, в свою очередь, связаны с культурами Азии.
Трубецкой приводит примеры различных видов русского народного искусства: музыки, танца, орнамента, народной словесности, – все они по своей структуре и духу ближе туранскому (урало-алтайскому) Востоку, чем славянским образцам. Сходство обнаруживается и в национальном характере русских: созерцательность и приверженность обряду, удаль, ценимая в русских героях, вместе с тем, беспрекословное повиновение власти.
Туранские этнопсихологические особенности оказали свое влияние и на самобытность русского православия. «Именно в силу туранских черт своей психики древнерусский человек не умел отделять своей веры от своего быта, сознательно выделять из проявлений религии несущественные элементы, и именно потому он оказывался таким слабым богословом, когда встречался с греками» [162] Трубецкой Н. С. К проблеме русского самопознания. С. 156.
. Туранскому религиозному мышлению, в отличие от греческого, свойственно рассматривать догмат веры «как данное, как основной фон душевной жизни и внешнего быта, а не как предмет философской спекуляции». Также оно отличается «отсутствием гибкости, пренебрежением к абстрактности и стремлением к конкретизации, к воплощению религиозных переживаний и идей в формах внешнего быта и культуры» [163] Трубецкой Н. С. К проблеме русского самопознания. С. 158.
.
Интервал:
Закладка: