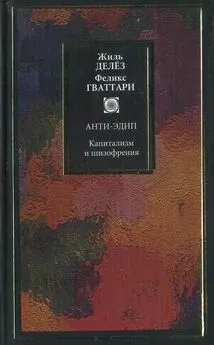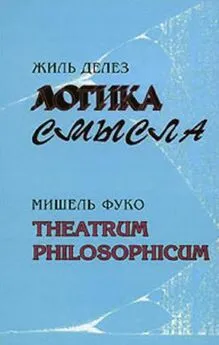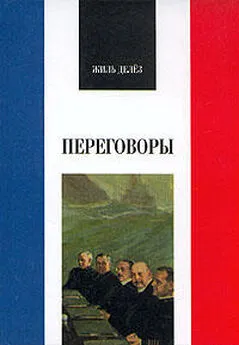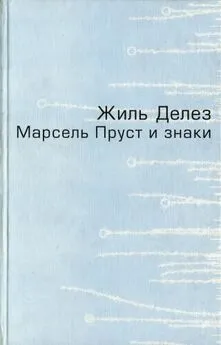Жиль Делез - Капитализм и шизофрения. Книга 2. Тысяча плато
- Название:Капитализм и шизофрения. Книга 2. Тысяча плато
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:У-Фактория, Астрель
- Год:2010
- Город:Екатеринбург, Москва
- ISBN:978-5-9757-0526-6, 978-5-271-27869-3, 978-5-9757-0527-3, 978-5-271-29213-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жиль Делез - Капитализм и шизофрения. Книга 2. Тысяча плато краткое содержание
Второй том «Капитализма и шизофрении» — не простое продолжение «Анти-Эдипа». Это целая сеть разнообразных, перекликающихся друг с другом плато, каждая точка которых потенциально связывается с любой другой, — ризома. Это различные пространства, рифленые и гладкие, по которым разбегаются в разные стороны линии ускользания, задающие новый стиль философствования. Это книга не просто провозглашает множественное, но стремится его воплотить, начиная всегда с середины, постоянно разгоняясь и размывая внешнее. Это текст, призванный запустить процесс мысли, отвергающий жесткие модели и протекающий сквозь неточные выражения ради строгого смысла…
Капитализм и шизофрения. Книга 2. Тысяча плато - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Верно, что у кочевников нет истории, у них есть только география. И поражение кочевников было настолько полным, что история стала историей благодаря триумфу Государств. Итак, мы присутствуем при обобщенной критике, изгоняющей кочевников как неспособных к какому-либо нововведению, будь то технологическому или металлургическому, политическому или метафизическому. Историки — буржуазные или советские (Груссе [Grousset] или Владимирцов) — рассматривают кочевников как убогих людей, которые ничего не понимают: ни в технике, к коей они остаются безразличными, ни в сельском хозяйстве, ни в городах и Государствах, кои они разрушают или завоевывают. Между тем трудно понять, как могли бы кочевники торжествовать в войне, если у них не было мощной металлургии — идея, что кочевник обретает свое техническое вооружение и свои политических советников от перебежчиков из имперского Государства, все-таки неправдоподобна. Трудно понять, как кочевники могли бы пытаться разрушать города и Государства, если не от имени номадической организации и машины войны, которые определяются не невежеством, а своими позитивными характеристиками, своим специфическим пространством, своей собственной композицией, порывающей с родством и предотвращающей форму-Государство. История не перестает изгонять кочевников. Предпринимались попытки применить к машине войны собственно милитаристскую категорию (категорию «военной демократии»), а к номадизму собственно оседлую категорию (категорию «феодализма»). Но обе эти гипотезы предполагают территориальный принцип — либо что имперское Государство присваивает себе машину войны, распределяя земли между воинами (клерои [cleroi] [531]и ненастоящие вотчины), либо что собственность, ставшая частной, сама закладывает отношения зависимости между собственниками, конституирующими армию (подлинные вотчины и вассальная зависимость). [532]
В обоих случаях число подчинено «неподвижной» фискальной, то есть налоговой, организации, дабы установить, какие земли могут быть уступлены, а какие уже уступлены, а также, чтобы фиксировать выплаты с помощью самих бенефициариев. Несомненно, что номадическая организация и машина войны перекраивают эти проблемы, как на уровне земли, так и на уровне налоговой системы, где воины-кочевники — что бы кто ни говорил — были большими новаторами. Но именно они изобретают «подвижные» территориальность и налоговую систему, кои свидетельствуют о самостоятельности числового принципа — здесь может быть смешение или комбинация между системами, но спецификой номадической системы остается подчинение земли числам, которые перемещаются и развертываются, и подчинение налога внутренним отношениям в этих числах (например, уже у Моисея налог вмешивается в отношение между числовыми телами и особым телом числа). Короче, военная демократия и феодализм вместо того, чтобы объяснять номадическую числовую композицию, свидетельствуют скорее о том, что может от нее остаться в оседлых режимах.
Теорема VII. Кочевое существование обладает в качестве «аффектов» вооружением машины войны.
Мы всегда можем провести различие между оружием и инструментами на основании их употребления (губить людей или производить товары). Но хотя такое внешнее различие объясняет определенную вторичную адаптацию технического объекта, оно не мешает общей взаимообратимости между обеими группами до такой степени, что кажется крайне трудным предложить внутреннее различие между оружием и инструментами. Способы нанесения удара, как их определил Леруа-Гуран, обнаруживаются на обеих сторонах. «Вероятно, в течение нескольких веков сельскохозяйственные инструменты и военное оружие оставались тождественными». [533]Мы могли бы говорить об «экосистеме», имеющей место с самого начала, когда рабочие инструменты и оружие войны обменивались своими определениями — кажется, что один и тот же машинный филум пересекает и то, и другое. Но, однако, у нас возникает ощущение, что существует много крупных интериорных различий, даже если они не являются внутренне присущими, то есть логическими или концептуальными и даже если они остаются не совсем точными. В первом приближении оружие имеет привилегированное отношение к прогнозированию. Все, что вбрасывается или запускается — это, прежде всего, оружие, а двигатель — его существенный момент. Оружие является баллистическим; само понятие «проблемы» относится к машине войны. Чем больше инструмент содержит механизмов выброса, тем больше он сам действует как оружие, потенциальное или просто метафорическое. Вдобавок инструменты не перестают компенсировать метательные механизмы, каковыми они обладают, или приспосабливать их к другим целям. Верно, что метательное оружие, в строгом смысле, — будь то выбрасываемое или выбрасывающее, — является лишь одним видом среди других; но даже личное оружие требует иного употребления руки и кисти, нежели инструменты, — метательного употребления, о чем свидетельствуют военные искусства. Инструмент, напротив, куда более интроцептивен [introceptif], интроективен [introjectifj — он подготавливает материю на расстоянии, дабы привести ее в состояние равновесия или приспособить к форме внутреннего. Действие на расстоянии существует в обоих случаях, но в одном случае оно является центробежным, а в другом — центростремительным. Мы также могли бы сказать, что инструмент неожиданно сталкивается с сопротивлениями, которые надо преодолевать или использовать, тогда как оружие имеет дело с контратаками, коих следует избегать или кои следует изобретать (контратака — это фактически изобретательный и стремительный фактор в машине войны, если только он не сводится лишь к количественному соперничеству или к оборонительному параду).
Во-вторых, оружие и инструменты не обладают «по своей тенденции» (приблизительно) одним и тем же отношением к движению, к скорости. Еще один существенный вклад Поля Вирилио состоит в подчеркивании такой взаимодополнительности оружия и скорости — оружие изобретает скорость, или открытие скорости изобретает оружие (отсюда метательный характер оружия). Машина войны освобождает вектор скорости, столь ей присущий, что ему требуется особое имя, которое является не только мощью разрушения, но и «демократией» (= nomos). Среди других преимуществ эта идея заявляет новый способ различия между охотой и войной. Ибо Вирилио уверен не только в том, что война не выводится из охоты, но также и в том, что охота сама не способствует вооружению, — либо война развивается в сфере неразличимости и взаимообратимости между оружием и инструментом, либо она использует ради собственной выгоды уже соорганизованное, уже известное оружие. Как говорит Вирилио, война появляется никоим образом не тогда, когда человек применяет к человеку отношение охотника к животному, но, напротив, она появляется тогда, когда он захватывает силу загнанного животного и входит в совершенно иное отношение — отношение войны — с человеком (враг, но уже не добыча). Таким образом, неудивительно, что машина войны была изобретением номадических животноводов — разведение и дрессировка животного не смешиваются ни с первобытной охотой, ни с оседлым одомашниванием, но являются фактически открытием системы метания и снаряда. Вместо того чтобы отвечать насилием на каждое нападение или полагать насилие «раз и навсегда», располагать машину войны совместно с разведением и дрессурой, лучше установить полную экономию насилия, то есть способ сделать насилие длительным и даже беспредельным. «Кровопролитие, немедленное убийство противоположны неограниченному использованию насилия, то есть его экономии. <���…> Экономия насилия — это не экономия охотника в животноводе, но экономия загнанного животного. В верховой скачке мы сохраняем кинетическую энергию, скорость лошади, а не ее протеины (двигатель, а не плоть). <���…> В то время как на охоте охотник стремился остановить движение дикой животности посредством систематического убийства, животновод [собирается] его сохранить, и, благодаря дрессировке, наездник объединяется с этим движением, ориентируя его и провоцируя свое ускорение». Технологический двигатель разовьет эту тенденцию, но «верховая скачка — это первый огнемет воина, его первая система вооружения». [534]Отсюда становление-животным в машине войны. Значит ли это, что машина войны не существует до верховой езды и кавалерии? Это не вопрос. Вопрос в том, что машина войны предполагает высвобождение Скоростного вектора, ставшего свободной или независимой переменной, высвобождение того, что не происходит на охоте, где скорость отсылает, прежде всего, к загнанному животному. Возможно, что этот вектор бега был освобожден в пехоте без обращения к верховой езде; более того, возможно, что существовала верховая скачка, но лишь как способ транспортировки или даже перевозки, не имеющей никакого дела со свободным вектором. Однако, в любом случае, воин заимствует у животного скорее идею двигателя, чем модель добычи. Он не обобщает идею добычи, применяя ее к врагу, он абстрагирует идею двигателя, применяя ее к себе самому.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: