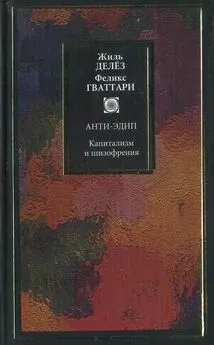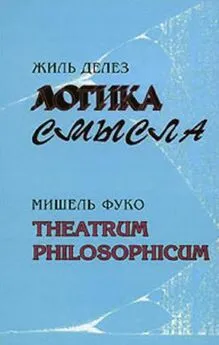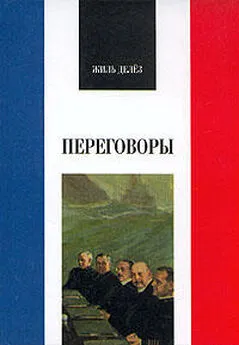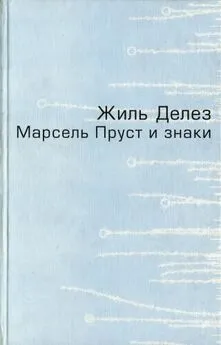Жиль Делез - Капитализм и шизофрения. Книга 2. Тысяча плато
- Название:Капитализм и шизофрения. Книга 2. Тысяча плато
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:У-Фактория, Астрель
- Год:2010
- Город:Екатеринбург, Москва
- ISBN:978-5-9757-0526-6, 978-5-271-27869-3, 978-5-9757-0527-3, 978-5-271-29213-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жиль Делез - Капитализм и шизофрения. Книга 2. Тысяча плато краткое содержание
Второй том «Капитализма и шизофрении» — не простое продолжение «Анти-Эдипа». Это целая сеть разнообразных, перекликающихся друг с другом плато, каждая точка которых потенциально связывается с любой другой, — ризома. Это различные пространства, рифленые и гладкие, по которым разбегаются в разные стороны линии ускользания, задающие новый стиль философствования. Это книга не просто провозглашает множественное, но стремится его воплотить, начиная всегда с середины, постоянно разгоняясь и размывая внешнее. Это текст, призванный запустить процесс мысли, отвергающий жесткие модели и протекающий сквозь неточные выражения ради строгого смысла…
Капитализм и шизофрения. Книга 2. Тысяча плато - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Теперь мы толком и не знаем, где оказались. Столь многое разыгрывается в этих остроумных репликах. Столь много бесконечно размножающихся различий. Так много сведения счетов, ибо эпистемология не невинна. Приятный и тонкий Жоффруа и неистовый и серьезный Кювье действительно бьются вокруг Наполеона. Кювье, несгибаемый специалист, выступающий против Жоффруа, всегда готового сменить специальность. Кювье ненавидит Жоффруа, он не в состоянии снести беспечные формулировки последнего, его юмор (да, у курицы действительно есть зубы, а у омара кожа на костях и т. д.). Кювье — человек Власти и Почвы, и он не позволит забывать об этом Жоффруа, который служит уже прототипом кочевого человека скоростей. Кювье размышляет в евклидовом пространстве, тогда как Жоффруа мыслит топологически. Давайте обратимся сегодня к складкам коры мозга со всеми их парадоксами. Страты являются топологическими, и Жоффруа — великий художник складывания-сгибания, крупнейший художник; как таковой, он уже предчувствует некий вид животной ризомы с нелепыми коммуникациями — предчувствует Чудовищ, тогда как Кювье реагирует в терминах прерывистых фотографий и остатков окаменелостей. Но мы немного растерялись, ибо различия множатся во всех направлениях.
Мы к тому же еще даже не приняли во внимание Дарвина, эволюционизм или неоэволюционизм. Однако именно здесь имеет место решающий феномен — наш театр марионеток становится все более туманным, другими словами, коллективным и дифференциальным. Ранее мы привлекли два фактора и их сомнительные отношения, дабы объяснить разнообразие внутри страты — степени развития, или совершенства, и типы форм, — которые теперь подвергаются глубокому преобразованию. Следуя двойной тенденции, типы форм все более и более начинают пониматься в терминах популяций, стай и колоний, коллективностей или многообразий; а степени развития — в терминах скоростей, норм, коэффициентов и дифференциальных отношений. Двойное углубление. Это — фундаментальный вклад дарвинизма, подразумевающий новое сцепление индивидуумов и сред на страте. [54] В излагаемой довольно длинной истории Эдмон Перрье заслуживает особого, хотя и не решающего, места. Он вернулся к проблеме единства композиции, возобновив работу Жоффруа благодаря Дарвину и особенно Ламарку. Действительно, весь труд Перрье организуется вокруг двух тем: животные колонии или множественности с одной стороны, а с другой — скорости, необходимые для того, чтобы принимать в расчет по-иному мыслимые степени и складывания («тахигене-зис»). Например, мозг позвоночного может начать занимать положение рта у кольчатых в «борьбе между ртом и мозгом». См.: Les colonies animales et la formation des organismes; L'origine des embranchements du règne animal // Scientia, mai-juin 1918. Перрье написал историю, озаглавленную Philosophie zoologique avant Darwin, которая включает превосходные главы о Жоффруа и Кювье.
С одной стороны, если мы предполагаем наличие элементарных или даже молекулярных популяций в данной среде, то формы не существуют до этих популяций — они, скорее, суть статистические результаты: чем более формы популяции расходятся, чем более ее множественность делится на множественности разной природы, чем более ее элементы, входящие в разные соединения или материи, дистанцируются друг от друга — тем более эффективно она распределяется на среде или делит среду. Именно в этом смысле пересматривается отношение между эмбриогенезом и филогенезом: эмбрион вовсе не свидетельствует в пользу наличия абсолютной формы, предсуществующей якобы в закрытой среде; скорее, именно филогенез популяций обладает — в открытой среде — свободой выбора относительных форм, причем ни одна из этих форм не предустановлена. В случае эмбриогенеза «можно говорить — ссылаясь на тех, кто тебя произвел на свет, и предвосхищая результат рождения — о том, что развиваются голубь или волк… Но здесь в движение приходят сами точки отсчета, — если допустить, что есть лишь фиксированные точки для удобства использования определенного языка. Но в масштабе универсальной эволюции их невозможно выделить… Жизнь на земле предстает как сумма относительно независимых разновидностей флоры и фауны с каждый раз сдвигающимися или пористыми границами между ними. Географические области могут давать лишь убежище своего рода хаосу или, в лучшем случае, обеспечивать внешнюю гармонию экологического порядка, временное равновесие между популяциями». [55] Canguilhem et collab. Du développement à l'évolution au XIX siècle // Thaïes, 1960, p. 34.
С другой стороны, в то же время и в тех же условиях степени выступают не как степени предсуществующего развития или совершенства, а как степени глобального и относительного равновесия — они появляются как функция преимущества, каковое они сообщают таким элементам, а затем таким множественностям в среде, то есть они появляются как функция такой вариации в среде. В этом смысле степени измеряются уже не как растущее совершенство, не как показатели дифференцирования и усложнения частей, а как показатели дифференциальных отношений и коэффициентов — таких как давление отбора, действие катализатора, скорость распространения, норма роста, эволюция, мутация и т. д.; тогда относительный прогресс происходит, скорее, благодаря формальным и количественным упрощениям, а не усложнениям, благодаря утрате компонентов и синтезу, а не приобретению (речь идет о скорости, а скорость — это нечто дифференциальное). Мы формируемся, обретаем форму благодаря популяциям, а прогрессируем и получаем скорость благодаря утрате. Оба фундаментальных достижения дарвинизма ведут нас к науке о множественностях — замена популяций на типы, замена норм или дифференциальных отношений на степени. [56] Simpson, G.G. L'évolution et sa signification, Payot.
Это достижения кочевников — с подвижными границами популяций или вариациями множественностей, с дифференциальными коэффициентами или вариациями отношений. Современная биохимия, или «молекулярный дарвинизм», как называет его Моно, утверждает — на уровне одного и того же статистического и глобального индивидуума, или простого образца — решающее значение молекулярных популяций и микробиологических норм (например, неисчислимая последовательность в цепочке и случайная вариация отдельного сегмента в последовательности).
Челленджер уверял, что, в конце концов, есть отклонения, но добавлял, что нет никакой возможности различать между тем, что отклоняется, и тем, что не отклоняется. Речь идет о том, чтобы сделать хоть какие-то выводы относительно единства и разнообразия той же самой страты, то есть органической страты.
Начнем с того, что у страты действительно есть единство композиции, которое и позволяет называть ее некой стратой — молекулярные материалы, субстанциальные элементы, формальные отношения или черты. Материалы — это не неоформленная материя плана консистенции; они уже стратифицированы и исходят от «субстрат». Но субстраты, конечно же, не следует рассматривать как простые субстраты — в частности, их организация не менее сложна, чем организация страт, и не ниже последних по статусу; нужно отгородиться от всякого смехотворного космического эволюционизма. Материалы, поставляемые субстратой, без сомнения, проще композитов страты, но уровень их организации, которому они принадлежат на субстрате, не ниже, чем уровень организации самой страты. Между материалами и субстанциальными элементами есть другая организация, изменение в организации, но не ее приращение. Поставляемые материалы конституируют внешнюю среду для рассматриваемых элементов и композитов страты, но последние не являются внешними для страты. Элементы и композиты конституируют внутреннее страты, так же как материалы конституируют ее внешнее; но и внешнее, и внутреннее принадлежат страте, ибо материалы поставляются страте и отбираются для нее, а элементы формируются из материалов. И опять же такое внешнее и такое внутреннее относительны; они существуют только через обмены и, следовательно, только благодаря страте, ответственной за отношение между ними. Так, на кристаллической страте аморфная среда является внешней к затравке до того, как конституировался кристалл; кристаллы конституируются благодаря интериоризации и инкорпорированию масс аморфного материала. И наоборот, интериорность затравки кристалла должна перейти в экстериорность системы, где аморфная среда сможет кристаллизоваться (способность обрести другую форму организации). Дело в том, что именно затравка приходит извне. Короче, как внешнее, так и внутреннее выступают в качестве иного внутреннего для страты. То же справедливо и для органической страты: материалы, поставленные субстратой — это внешняя среда, конституирующая известный добиотический бульон, а катализаторы играют в ней роль затравки для формирования элементов или даже внутренних субстанциальных композитов. Но эти элементы и композиты как присваивают себе материалы, так и экстериоризуются через репликацию в одних и тех же условиях первичного бульона. И опять же, внутреннее и внешнее меняются местами, оба выступая как внутреннее для органической страты. Но между ними есть предел, есть мембрана, регулирующая обмены и трансформации организации, распределение внутреннего в страте, — мембрана, определяющая всю совокупность отношений или формальных особенностей страты (даже если положение и роль этого предела крайне варьируются относительно каждой страты — например, грань кристалла и мембрана клетки). Следовательно, мы можем говорить о центральном слое или центральном кольце страты, о совокупности, составляющей единство композиции последней — внешние молекулярные материалы, внутренние субстанциональные элементы, а также предел или мембрана передают формальные отношения. Как если бы существовала одна и та же сворачиваемая в страте абстрактная машина, которая конституирует свое единство. Это и есть Эйкуменон [Œcumène], в противоположность Планоменону [Planomène] плана консистенции.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: