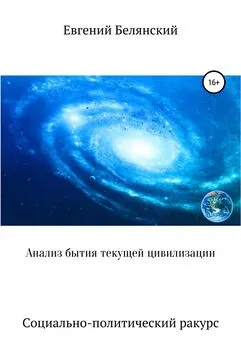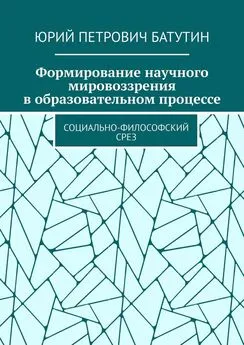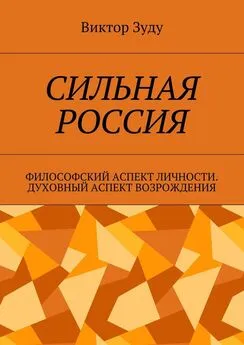Николай Клягин - Происхождение цивилизации (социально–философский аспект)
- Название:Происхождение цивилизации (социально–философский аспект)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Институте философии РАН
- Год:1996
- Город:Москва
- ISBN:5-201-01894-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Клягин - Происхождение цивилизации (социально–философский аспект) краткое содержание
В монографии обосновывается представление о том, что между степенями сложности технологий, практикуемых социумами в истории, и демографическим состоянием этих социумов издавна существовало определенное количественное соответствие. Подобная демографо-технологическая зависимость позволяет объяснить закономерную корреляцию главнейших технологических революций с демографическими взрывами. Один из них — неолитический — послужил причиной возникновения производящего хозяйства. Дальнейшее демографическое развитие ближневосточных обществ по демографо–статистическим причинам создало основу для общественного разделения труда. Этот разрушительный для целостности социума процесс был нейтрализован путем заключения социума в матрицу городской цивилизации, понимаемой как предметная форма структуры общества разделенного труда. Предложены оригинальные объяснения генезиса ведущих форм духовной жизни ранней цивилизации.
Для научных работников, всех, интересующихся проблемами генезиса цивилизации и культуры.
Происхождение цивилизации (социально–философский аспект) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Возникновение самосознания знаменовало собой первый этап дифференциации подразделения умственного труда, поскольку самосознание, являясь достоянием отдельных индивидов, показывало распад единого общественного сознания группы умственного труда. Между тем, как отмечалось выше (см. гл. II, 2), цивилизация являлась социально–интегративным феноменом и на все проявления общественной дифференциации, — будь то материальная или духовная дифференциация, — реагировала порождением интеграционных предметных или идеальных форм, способных нейтрализовать последствия общественной дифференциации, угрожающей целостности социума. Можно было бы ожидать, что цивилизация выработает предметную форму и для самосознания, отдифференцировавшегося от единого общественного сознания и стремящегося к дальнейшей еще большей дифференциации на подгрупповом (наука, история, литература и пр.) и индивидуальном уровне.
Поскольку самосознание связано с навыками внутренней речи, владеющий ею человек впервые в истории стал обладателем формы сознания, способной функционировать вне непосредственных контактов индивидов. Все типы вторичных общественных структур и связанных с ними вариантов общественного сознания (анализированных в гл. I,3) рассчитаны на непосредственные контакты индивидов: жестовая и звуковая речь — на слушателей, ритуал — на соучастников и т.д. Можно думать, что до появления индивидуального самосознания ни форм вторичных структур, ни форм общественного сознания индивидуального назначения не существовало. С возникновением индивидуального самосознания такая форма появилась. Самосознание человека может функционировать как при его контакте с другими индивидами, так и вне этих контактов. В интересах сохранения целостности своего подразделения умственного труда социум должен был найти возможность сделать второй вариант функционирования индивидуального сознания достоянием всех членов подразделения умственного труда. Для этого индивидуальному сознанию требовалась предметная форма, способная стать посредником обмена проявлениями индивидуального самосознания у людей. На наш взгляд, в интересах обмена проявлениями самосознания была использована протошумерская предметная письменность, которая в цивилизованную эпоху прошла стремительную эволюцию в клинописное письмо. Обычно считается, что письменные регистрации являлись записями для памяти. Но записи для памяти нужны лишь той форме сознания, которая способна функционировать вне непосредственных контактов индивидов. С социально–философской точки зрения, эти записи для памяти были важны не только по прямому назначению (хозяйственный учет и т.д.), но и для того, чтобы сделать проявления индивидуального самосознания общественным достоянием, т.е. социальноинтегрировать носителя индивидуального самосознания.
Таким образом, письменность можно рассматривать как предметную форму индивидуального самосознания, призванную сделать его проявления достоянием других членов социума и тем самым обеспечить интеграцию интеллектуальной деятельности носителей индивидуального самосознания в рамках соответствующего подразделения вторичной идеологической структуры общества. Как можно думать, формы проявления индивидуального самосознания были специфичны для подразделения умственного труда и существовали в окружении традиционных форм общественного сознания, унаследованных цивилизацией от предшествующих эпох. Эту культурную преемственность нельзя объяснять только инертностью идеологических представлений общества, поскольку она сама нуждается в объяснении.
Цивилизованное общество разделенного труда отличалось от предшествующего общественного состояния важными признаками количественного и качественного характера. Прежде всего, общество разделенного труда располагало формами общественного производства, более эффективными, чем те, что были присущи первобытному обществу. О том свидетельствует сам факт появления институциализированных отраслей несельскохозяйственного производства, представленных различными формами ремесла, зодчества, горного дела и т.д., а также функционирование профессиональных групп, занятых в основном распределением произведенных материальных благ, — купцов и управленческой администрации. Надо сказать, что четкой грани между подразделениями труда поначалу не существовало, поскольку, например, в Шумере ремесленники получали за работу, помимо натуральных выдач, также и земельные наделы [108] , которые, впрочем, необязательно обрабатывали сами. Это обстоятельство объяснялось слабой развитостью товарно–денежных отношений. Однако значительное количество шумерских несельскохозяйственных профессий показывает, что достигнутый уровень сельскохозяйственного производства способен был обеспечивать существование определенных групп лиц, постоянно не связанных с сельским хозяйством. Для общества в целом это означало наличие значительного количества времени, свободного от добычи средств к существованию. Социум распорядился этим временем двояко. Во–первых, часть людей была изъята из сельскохозяйственного производства, что повысило в нем занятость; освобожденные от постоянных сельхозработ лица нашли применение в сфере ремесла и прочих несельскохозяйственных занятий: в общем, сложилась типичная картина общества разделенного труда. Во–вторых, цивилизованный социум занимал остающееся свободным время своих членов различными коллективными мероприятиями из области вторичных общественных структур. В этом отношении цивилизованное общество продолжало практику первобытного общества, в котором свободное время в интересах его социализации заполнялось различными формами общения непроизводственного характера. В цивилизованном обществе этого времени в принципе могло быть больше, в связи с чем требовались более емкие вторичные структуры.
Кроме того, цивилизованное общество не было однородным, а потому его вторичные структуры должны были, помимо социализации свободного времени, способствовать консолидации профессиональных групп, что могло вызвать к жизни некоторые элементы вторичных общественных структур, неизвестных в первобытности. Однако во всех случаях для социума были предпочтительнее вторичные структуры традиционного характера. Проще сказать, вторичные структуры цивилизованного общества должны были быть частью культурного генеалогического древа, уходящего корнями в первобытность. Попробуем объяснить необходимость этого обстоятельства.
Представим себе, что дифференциация первичных структур общества, основанная на специализации технологий, разделении труда и т.д., будет сопровождаться дифференциацией и вторичных общественных структур, что выглядит в общем–то логично. Но в этом случае специализированные вторичные структуры, очевидно, начнут утрачивать способность осуществлять общесоциальную интеграцию, поскольку области их приложения станут более частными, специализированными. Этот ход событий не отвечал социально-интегративным потребностям социума. Следовательно, для вторичных общественных структур оптимальным было сохранение по возможности своего прошлого менее дифференцированного состояния, отвечающего задачам общесоциальной интеграции. Таким образом инертность вторичных общественных структур, их связь со своим прошлым недифференцированным состоянием получает социально–философское объяснение.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: