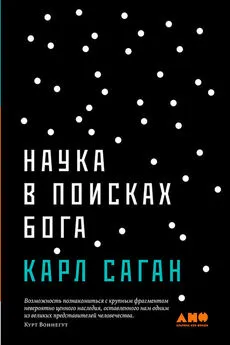Карл Поппер - Неоконченный поиск. Интеллектуальная автобиография
- Название:Неоконченный поиск. Интеллектуальная автобиография
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Раймунд
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906345-02-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Карл Поппер - Неоконченный поиск. Интеллектуальная автобиография краткое содержание
Предлагаемая вниманию читателей книга представляет собой философскую автобиографию Карла Раймунда Поппера (1902–1994), — крупнейшего философа науки и социального мыслителя XX века. Повествование автора об особенностях его интеллектуального становления и философской эволюции разворачивается на фоне масштабных событий XX века — первой мировой войны, межвоенного лихолетья 1920–1930 годов, вынужденной эмиграции и годов скитаний. Автор приоткрывает перед читателем вход в лабораторию своей мысли, показывает рождение своих главных философских концепций и идей через призму споров с коллегами, друзьями и оппонентами. Книга рассчитана на широкий круг читателей.
Неоконченный поиск. Интеллектуальная автобиография - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И все же пробы не всегда совершенно слепы к требованиям проблемы: проблема часто определяет множество, из которого черпаются пробы (вроде множества цифр). Это было хорошо описано Дэвидом Кацем: «Голодное животное делит окружающую среду на съедобные и несъедобные вещи. Убегающее животное видит пути побега и места, где можно затаиться» [51]. Более того, после успешной пробы проблема может несколько измениться; например, множество может сузиться. Однако бывают и несколько иные случаи, особенно на уровне человека; случаи, когда все зависит от способности пробиться сквозь границы предполагаемого множества. Эти случаи показывают, что сам выбор множества может быть пробой (бессознательным предположением) и что критическое мышление должно состоять не только в отбрасывании отдельных проб или предположений, но и в отрицании того, что может быть описано как более глубокое предположение — предположение о множестве «всех возможных проб». Это, как мне кажется, происходит во многих случаях «творческого» мышления.
То, что характеризует творческое мышление, помимо интенсивности увлеченности проблемой, мне часто представляется в виде способности прорываться сквозь барьеры множества — или варьировать множество, — из которого черпает свои пробы менее творческий мыслитель. Эта способность, которая, несомненно, является критической, может быть описана как критическое воображение . Оно часто является результатом культурной сшибки, то есть столкновения идей или структур идей. Такая сшибка может помочь нам прорваться сквозь обычные границы нашего воображения.
Однако замечания, подобные вышеприведенному, едва ли удовлетворят тех, кому нужна психологическая теория творческого мышления, и в особенности научного открытия. Потому что теория, которую они ищут, это теория успешного мышления.
Мне кажется, что потребность в теории успешного мышления никогда не может быть удовлетворена, и это не то же самое, что потребность в теории творческого мышления. Успех зависит от многих вещей — например от удачи. Он может зависеть от встречи с многообещающей проблемой. Он зависит от того, что его не предвосхищают. Он зависит от таких вещей, как удачное распределение времени между старанием идти в ногу со временем и концентрацией усилий на своих собственных идеях.
Но самое существенное в «творческом» или «изобретательном» мышлении, как мне видится, состоит в соединении интенсивного интереса к некоторой проблеме (и поэтому готовности начинать все снова и снова сначала) с высоко критическим мышлением; с решимостью подвергать сомнению даже те предпосылки, которые для менее критического ума определяют пределы множества, из которого выбираются пробы (предположения); со свободой воображения, которая позволяет нам видеть такие источники ошибок, о которых мы до сих пор не подозревали: возможные предрассудки, требующие критического рассмотрения. (По моему мнению, большая часть исследований по психологии творческого мышления довольно бесплодны — или носят скорее логический, чем психологический характер [52]. Потому что критическое мышление, или процедура элиминации ошибок, лучше характеризуется в логических, чем в психологических терминах.)
«Проба», или вновь сформированная «догма», или новое «ожидание» является большей частью результатом врожденных потребностей , которые порождают специфические проблемы. Но она также является результатом врожденной потребности формировать ожидания (в определенных специфических областях, которые, в свою очередь, связаны с некоторыми другими потребностями); кроме того, частично она может являться результатом неисполненных прежних, более ранних ожиданий. Я, конечно, не отрицаю, что в процессе формирования проб или догм может сыграть свою роль также и элемент индивидуальной изобретательности, но полагаю, что изобретательность и воображение играют свою главную роль в критическом процессе элиминации ошибок . Большинство великих теорий, находящихся в числе высших достижений человеческого разума, являются потомками более ранних догм плюс критицизм.
То, что стало мне ясно с самого начала в контексте формирования догм, состояло в том, что дети — особенно маленькие дети — очень нуждаются в наличии вокруг них открываемых регулярностей; существует врожденная потребность не только в пище и любви, но и, кроме того, в существовании открывавмых структурных инвариантов окружающей среды («вещи» являются такими открываемыми инвариантами), в устоявшейся рутине, в устоявшихся ожиданиях. Этот инфантильный догматизм был замечен Джейн Остин: «Генри и Джон по-прежнему просили каждый день, чтобы им рассказали историю про Харриет и цыган, и по-прежнему настойчиво поправляли Эмму… если она хоть немного изменяла первоначальный рассказ» [53]. Дети, особенно постарше, могут получать удовольствие и от вариаций, но это главным образом касается ограниченного множества или структур ожиданий. Например, такими бывают игры, и правила игры (инварианты) почти невозможно изучить путем простого наблюдения [54].
Мой главный пункт состоял в том, что догматический способ мышления существует благодаря наличию врожденной потребности в регулярностях и врожденных механизмов открытия — механизмов, которые заставляют нас искать регулярности. И один из моих тезисов состоял в том, что когда мы многословно рассуждаем о «наследственности и среде», мы склонны недооценивать громадную роль наследственности — которая, помимо прочего, в большой мере определяет, какие аспекты объективной среды (экологическая ниша) принадлежат или не принадлежат субъективной или биологически значимой среде животного.
Я выделил три главных типа процесса обучения, первый из которых является фундаментальным:
(1) Обучение в смысле открытия: (догматическое) формирование теорий, или ожиданий, или регулярного поведения, контролируемого (критической) элиминацией ошибок.
(2) Обучение путем подражания, оно может быть интерпретировано как частный случай (1).
(3) Обучение путем «повторения» или «практики», вроде обучения игре на музыкальном инструменте или вождению автомобиля. Здесь мой тезис состоит в том, что (а) не существует настоящих «повторений» [55], а есть скорее (Ь) изменение путем элиминации ошибок (вслед за формированием теории) и (с) процесс, благодаря которому некоторые действия или реакции становятся автоматическими, позволяющий им тем самым опуститься до чисто физиологического уровня и выполняться без участия внимания.
Важность врожденной предрасположенности или потребности в открытии регулярностей может быть показана на примере того, как дети учатся говорить, — процесса, которому было посвящено множество исследований. Это, конечно, род обучения путем подражания; и самая поразительная вещь состоит в том, что этот очень ранний процесс является процессом проб и критической элиминации ошибок, в котором критическая элиминация ошибок играет очень важную роль. Сила врожденных предрасположенностей и потребностей в этом развитии может быть лучше всего показана на примере детей, которые по причине глухоты не участвуют нормальным образом в речевых ситуациях их социального окружения. Наверное, самыми убедительными примерами будут случаи с детьми, которые одновременно слепы и глухи, как Лаура Бриджмен — или Хелен Келлер, о которой я узнал только позднее. Следует обратить внимание, что даже в этих случаях мы обнаруживаем социальные контакты — контакты Хелен Келлер с ее учителем, — а также подражание. Но подражание Хелен Келлер словам учителя, произносимым в ее ладони, очень далеко отстоит от нормальной имитации ребенком звуков, которые он слышит долгое время и чью коммуникативную функцию даже собака может понять и соответствующим образом отреагировать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: