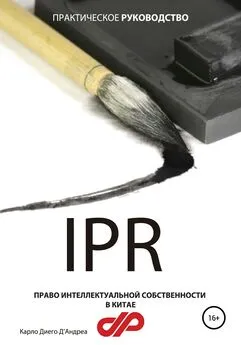Карл Поппер - Неоконченный поиск. Интеллектуальная автобиография
- Название:Неоконченный поиск. Интеллектуальная автобиография
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Раймунд
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906345-02-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Карл Поппер - Неоконченный поиск. Интеллектуальная автобиография краткое содержание
Предлагаемая вниманию читателей книга представляет собой философскую автобиографию Карла Раймунда Поппера (1902–1994), — крупнейшего философа науки и социального мыслителя XX века. Повествование автора об особенностях его интеллектуального становления и философской эволюции разворачивается на фоне масштабных событий XX века — первой мировой войны, межвоенного лихолетья 1920–1930 годов, вынужденной эмиграции и годов скитаний. Автор приоткрывает перед читателем вход в лабораторию своей мысли, показывает рождение своих главных философских концепций и идей через призму споров с коллегами, друзьями и оппонентами. Книга рассчитана на широкий круг читателей.
Неоконченный поиск. Интеллектуальная автобиография - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Все это открыло мне приоритет изучения логики над изучением субъективных процессов мышления . И это же заставило меня относиться с крайним подозрением ко многим психологическим теориям, принятым в то время. Например, я пришел к пониманию того, что теория условного рефлекса была ошибочной. Не существует такой вещи, как условный рефлекс. Поведение собак Павлова следовало бы интерпретировать как поиск инвариантов в области добывания еды (области по сути своей очень «пластичной», то есть открытой для исследования методом проб и ошибок) и производство ожиданий или предвосхищений грядущих событий. Можно назвать этот поиск «условным», но в результате процесса обучения формируется не рефлекс, а происходит открытие (быть может, ошибочное) того, чего следует ожидать [105]. Таким образом, даже на первый взгляд эмпирические результаты Павлова, как и рефлексология Бехтерева [106]и большинство современных теорий обучения, оказались в этом свете ошибочной интерпретацией их собственных результатов под влиянием аристотелевской логики; потому что рефлексология и теория условного поведения являются просто трансляцией психологии ассоциаций в термины неврологии.
В 1928 году я представил диссертацию на соискание степени доктора наук, в которой отошел от психологии открытия окончательно, хотя косвенно это было итогом всей моей многолетней работы в области психологии мышления и открытия. Я оставил мою психологическую работу неоконченной; у меня нет даже хорошей копии большей части того, что я написал; а сама диссертация, «О проблемах метода в психологии мышления» [107], была чем-то вроде скорописи, выполненной в последнюю минуту, первоначально задуманной только как методологическое введение в мою психологическую работу, но теперь указывающей на мой переход в сторону методологии.
К моей диссертации у меня неприятные чувства, я на нее больше даже ни разу не взглянул. У меня также остался неприятный осадок после двух моих «строгих» экзаменов (« Rigorosum », « строгость » — так назывались публичные устные экзамены на докторскую степень), одного по истории музыки, а другого по философии и психологии. Бюхлер, который уже экзаменовал меня по психологии, не задал мне ни одного вопроса из этой области, а побуждал меня рассказывать о моих собственных идеях в сфере логики и логики научного знания. Шлик экзаменовал меня главным образом по истории философии, и я так плохо отвечал по Лейбницу, что решил, что провалился. Я едва поверил своим ушам, когда мне сказали, что по обоим экзаменам я получил самую высокую оценку, «einsimmig mit Auszeichnung». Конечно, я почувствовал облегчение и счастье, но прошло еще немало времени, прежде чем я избавился от чувства, что на самом деле я заслуживал двойки.
16. Теория познания: Logik der Forschung
Мне присвоили докторскую степень в 1928 году, а в 1929-м я получил право преподавать математику и физику в средней школе. Для квалификационного экзамена я написал работу по проблемам аксиоматики в геометрии, которая содержала главу о не-евклидовой геометрии.
Только после моего экзамена на докторскую степень я сложил два и два, и все мои ранние идеи встали на свое место. Я понял, почему ошибочная теория научного знания, которая царила со времен Бэкона, — что естественные науки являются индуктивными науками и что индукция является процессом установления или оправдания теорий путем повторяющихся наблюдений или экспериментов — имела такие глубокие корни. Причина состояла в том, что ученые должны были отделить свою деятельность от псевдонауки, а также от теологии и метафизики, и в качестве критерия такой демаркации они взяли метод индукции Бэкона. (С другой стороны, они заботились об оправдании своих теорий путем ссылки на источник знания, сравнимый в авторитетности с источниками религии.) Но у меня на протяжении многих лет уже был в руках лучший критерий демаркации — проверяемость или фальсифицируемость.
Таким образом, я мог отвергнуть индукцию, не опасаясь возникновения проблем с демаркацией. И я мог использовать мои результаты, касающиеся метода проб и ошибок, таким образом, чтобы заменить всю индуктивную методологию дедуктивной. Фальсификация, или опровержение теорий путем фальсификации или опровержения ее дедуктивных следствий, была, на самом деле, дедуктивным выводом ( modus tollem). Из этой точки зрения следовало, что научные теории, пока их не фальсифицируют, всегда остаются гипотезами или предположениями.
Так прояснилась вся проблема научного метода, а вместе с ней сделалась более ясной и проблема научного прогресса. Научный прогресс состоит в движении по направлению к теориям, которые говорят нам все больше и больше, — теориям с более богатым содержанием. Однако чем более теория говорит, тем больше она исключает или запрещает и тем больше возможности ее фальсификации. Поэтому теория с более богатым содержанием — это теория, которая может быть подвергнута более суровой проверке. Это соображение привело к теории, в которой научный прогресс оказался состоящим не в накоплении наблюдений, а в опровержении менее хороших теорий и их замене лучшими теориями, в частности теориями с более богатым содержанием. Таким образом, теории соревнуются между собой — в духе дарвиновской борьбы за существование.
Разумеется, теории, о которых мы утверждаем, что они не более чем предположения или гипотезы, не требуют оправданий (и менее всего — оправданий несуществующим методом «индукции», которому никто не дал вразумительного описания). Однако в свете критического обсуждения мы можем иногда указывать на причины нашего предпочтения одного из конкурирующих предположений другому [108].
Все это было прямолинейно и, я бы сказал, последовательно. Но это сильно отличалось от того, что говорили махист-ские позитивисты и витгенштейнианцы Венского кружка. Я услышал о кружке в 1926 или 1927 году, сначала из газетной статьи, написанной Отто Нейратом, а затем из речи, с которой он выступил перед группой социал-демократической молодежи. (Это было единственное партийное собрание, на котором я когда-либо присутствовал; я пошел туда, потому что я немного знал Нейрата с 1919 или 1920 года.) Я прочитал программную литературу кружка и Общества Эрнста Маха — в частности памфлет моего учителя, математика Ганса Гана. Кроме того, за несколько лет до написания моей докторской диссертации, я прочел «Трактат» Витгенштейна и, по мере выхода, некоторые книги Карнапа.
Мне было ясно, что эти люди ищут критерий, разделяющий не столько науку и псевдонауку, сколько науку и метафизику. Кроме того, мне было ясно, что мой старый критерий демаркации лучше, чем их. Во-первых, потому что они пытались найти критерий, который делал бы метафизику бессмысленной чепухой, полной тарабарщиной. Но любой такой критерий чреват неприятностями, так как метафизические проблемы часто бывают провозвестниками научных. Во-вторых, демаркация осмысленного и бессмысленного просто сдвигает проблему. Как было признано и самими членами Венского кружка, она создает потребность в другом критерии, который различал бы смысл и отсутствие смысла. Для этого они ввели верифицируемость, которая рассматривалась ими как доказуемость посредством утверждений наблюдения. Но это всего лишь еще один способ формулировки почтенного критерия индуктивности; настоящей разницы между идеями индукции и верификации нет. Но согласно моей теории, наука не индуктивна; индукция — это миф, развенчанный Юмом. (Другим, но менее интересным пунктом, признанным позднее Айером, была полная абсурдность использования верифицируемости в качестве критерия смысла: как вообще можно говорить, что теория является тарабарщиной, потому что она не поддается верификации? Разве не нужно сначала понять теорию, чтобы решить, верифицируема она или нет? А понятая теория разве может быть тарабарщиной?) По всему этому я чувствовал, что на любой из их основных вопросов у меня есть лучшие — более последовательные — ответы, чем у них.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: