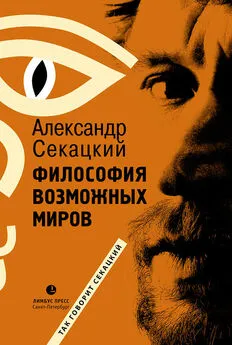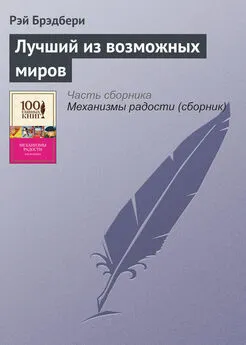Александр Секацкий - Философия возможных миров
- Название:Философия возможных миров
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство К.Тублина («Лимбус Пресс»)a95f7158-2489-102b-9d2a-1f07c3bd69d8
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-8370-0725-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Секацкий - Философия возможных миров краткое содержание
Новая книга философа и писателя Александра Секацкого необычна как с точки зрения выбора тем, так и по способу подачи материала. Каждое эссе представляет собой неожиданный, смещенный взгляд на давно знакомые и привычные вещи, преображающий контуры сущего и открывающий новые горизонты бытия. Высвечиваемые миры не похожи друг на друга, и все же определенным образом они совмещены с нашей реальностью, которая в итоге получает дополнительные непредсказуемые измерения. «Философия возможных миров» поразительным образом соединяет в себе метафизическую глубину, оригинальность мысли и бесспорную художественную выразительность. Лучше классика не скажешь: «Внимай, читатель, будешь доволен».
Философия возможных миров - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но как раз переиграть его и может наш спектакль, наш воображаемый театр – он это и делает. Театр подступает к прошлому иным образом и тем самым подступает к тому прошлому. В отличие от повествовательного прошлого, которое давно прикреплено к настоящему посредством пометки «я читаю» или «я слежу», и в отличие от того, что просто есть , поскольку было (было и, стало быть, вот оно есть), перед зрителем предстает колония хроноорганизмов, где режимы настоящего и прошлого заданы иным образом.
О чем свидетельствуют случайно пробуждающиеся и индуцирующие друг друга истории? Возьмем упомянутую злопамятность – демонстрируют ли ее обитатели миров, вдруг выплывающие из растаявшего льда? В общем случае нет, поскольку отепляемое прошлое ни в чем не уверено, лишено одержимости, его наполнение жизнью, объемом, глубиной, вообще содержанием зависит от успеха взаимной индукции, от того, кто придет к портному, от того, объявят ли вновь (или на этот раз) войну, мобилизацию, экспроприацию… Прошлое в нашем Иллюзионе не подчиняется требованию есть, поскольку уже было . Само устройство сцены дает понять, что зритель имеет дело не с заводными куклами, поставленными на паузу, как несравненная сура Кая [106], – хотя организация практически всех остальных технических средств визуальности именно такова: нажал кнопку, и сюжет идет либо с прерванного мгновения, либо сначала – с того же самого начала. Та к устроен господствующий тип визуальности, а впрочем, и господствующий нарратив вообще.
Злопамятность – необратимо вмененное прошлое, и в нашем театре оно возникает лишь изредка, например, когда пробуждается и начинает командовать тиран. Зритель тут мог бы заключить: прошлое – это и есть тиран, безжалостный, неумолимый диктатор, любой бунт против которого обречен. Мог бы, если бы не видел других версий, не видел бы того, как хроноорганизмы вступают в симбиоз, как они обмениваются ситуативным настоящим для обретения некоторой глубины взаимозависимого прошлого, – вот и тиран при другом раскладе, при другом порядке индукции, возможно, станет хорошим дирижером симфонического оркестра (об этом «Репетиция оркестра» Феллини), завсегдатай Иллюзиона вполне может этого дождаться. Такое прошлое не относится к региону «в себе», оно именно перед нами, передо мной. Но как раз таким образом оно и дано как некая простейшая человеческая темпоральность, здесь водораздел с настоящим только намечается и едва виден. Почему же мы выбрали мир, в который является некий Злодей или некое анонимное зло, которое принудительно вменяет прошлое кому-то посредством вердикта «этого уже не переиграть», а все остальное ветвящееся время объявляет небывшим? Причем этому злодею приписывается невероятное могущество, в котором он превосходит Бога: ведь известно, что даже сам Бог не может сделать бывшее небывшим…
Но все же благодаря реализации этой театральной идеи злопамятное прошлое становится одним из прошлых , оно теряет свою всевластность, когда оказывается среди других погрузившихся в хронобиоз прошлых. Выясняется, что хроноорганизмы (но, так сказать, именно простейшие) способны впадать в частичное забвение, явно противоположное свирепой злонамеренности прошлого.
Тут попутно стоило бы обратить внимание на воспитательное значение годового абонемента, способствующего вдумчивому просмотру спектаклей и их сравнению. Отход от повествовательных стереотипов, когда бывшее есть раз и навсегда вмененное, истребляющее и поглощающее своих «детей» (по отношению к такого рода прошлому образ Хроноса чрезвычайно убедителен), позволяет заметить, что каждый, в сущности, располагает таким репертуаром жизней, находится (при желании) в симбиозе с многочисленными хроноорганизмами, то и дело отправляемыми в спячку благодаря поддерживаемому извне закону мономаниакальности, благодаря нарративному императиву, в соответствии с которым удерживается одно из двух: либо злопамятство, либо беспамятство. Воспитание снисходительности, любопытства, навыка отслеживания – это одновременно и реабилитация хроносенсорики, и даже искусство выставления ее самых тонких настроек.
Еще раз вернемся к Сартру (вот бы ему посмотреть такой спектакль!): «Нет никакого основания, чтобы наше прошлое являлось бы таким или другим; оно появляется в целостности своего ряда как чистый факт, учитывать который нужно как факт, как беспричинное» [107]. Это избранное и вмененное прошлое и в самом деле есть опора присутствия и его основание. Простая исходная фактичность в горизонте истории представляет собой важнейший узор, идентификатор, за который следует держаться изо всех сил. Речь идет о сингулярностях, без которых облик индивидуума нераспознаваем, – о гусях, спасших Рим, о Сагайдачном, доблестном козаке, о котором поют: «Що проміняв жінку на тютюн, на люльку, необачний». Эти удержанные моменты по большей части являются элементами мифологем, но одновременно по своему характеру они «просто факты», и они – непоправимо фактичны. Даже если эти исходные события и имели место в самом эмпирическом смысле, они все равно ничем не отличаются от чисто мифологических обстоятельств, потому что произвольно удержаны, выхвачены из континуума, из происходящего (как безумный, но неистребимый вопрос отдаленных потомков отдаленным предкам: зачем же вы Христа распяли?), и не случись этого, зародыши будущего были бы тут же поглощены другими хроноорганизмами.
Порядок вменения фактичного прошлого Сартр описывает так:
«Каким является первое значение Настоящего? Ясно, что существующее в настоящем отличается от всякого другого существования своим характером присутствия. Во время поименной переклички солдат или ученик отвечают “Здесь!” в смысле “adsum” [108]. И присутствующий противополагается отсутствующему, а также прошлому. Таким образом, смысл настоящего и есть присутствие по отношению к…» [109]
Таков и в самом деле господствующий способ введения в настоящее. Господствующий, но не единственный. Мы не обязаны встречать перекличку присутствия как солдаты в строю – только как солдаты. Мы можем вести себя и как следопыты, ведь «присутствие по отношению к…» касается не только нас, но и их, обитателей, чьи истории оттаивают у нас на глазах. Их вхождение в настоящее зависит от нашего внимания, от чуткости следопытов. Отогреваемые отзываются, если их правильно окликают по именам, тогда они отвечают: «Здесь!» – и все же по большей части они остаются манифестациями другого прошлого, которое мы в наше настоящее не принимаем, ведь у нас свое вмененное прошлое, являющееся одновременно и опорой присутствия, и камнем, тянущим на дно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: