Дмитрий Галковский - Бесконечный тупик
- Название:Бесконечный тупик
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Галковский - Бесконечный тупик краткое содержание
«… книга на самом деле называется „Примечания к „Бесконечному тупику““ и состоит из 949 „примечаний“ к небольшому первоначальному тексту.
Каждое из 949 «примечаний» книги представляет собой достаточно законченное размышление по тому или иному поводу. Размер «примечаний» колеблется от афоризма до небольшой статьи. Вместе с тем «Бесконечный тупик» является всё же не сборником, а цельным произведением с определённым сюжетом и смысловой последовательностью. Это философский роман, посвящённый истории русской культуры XIX-XX вв., а также судьбе «русской личности» – слабой и несчастной, но всё же СУЩЕСТВУЮЩЕЙ.
Структура «Бесконечного тупика» достаточно сложна. Большинство «примечаний» являются комментариями к другим «примечаниям», то есть представляют собой «примечания к примечаниям», «примечания к примечаниям примечаний» и т.д. Для удобства читателей публикуется соответствующий указатель, помещённый в конце книги…»
Бесконечный тупик - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
272
Примечание к №271
«Философия всеединства» Соловьёва и направлена на объединение множества филологических элементов в единое целое.
Собственно, это «писательская философия». Соловьёв максимально абстрактно (и следовательно, максимально прозрачно) выразил идею писательства и особенно писательства русского. Но, словесно неодарённый, он пришел к мучительному и смехотворному результату. Соловьёвский синтез (порождение) совершила русская литература как процесс. Закончил его Набоков, в форме уже безопасной, так как сам «акт» был создан до него и Набоков был нравственно свободен. Розанов же, из-за своей уникальной в русской культуре философско-писательской природы, наиболее близко подошёл к осознанию общей программы.
273
Примечание к №253
«Трагедий» Мандельштама/Бухарина или Бабеля/Ежова интересен вообще
Жена Осипа Мандельштама Надежда Мандельштам-Хазина с наглой наивностью сказала:
«Все мы к кому-нибудь „ходили“. Пильняк ходил к Ежовым, я с мужем „ходила“ к Николаю Ивановичу Бухарину».
«Ходить» было недалеко. Доказывая мандельштамовскую «несоветскость», Хазина вспоминает:
«Во время июльской демонстрации (большевиков в 1917 году) он служил в „Союзе городов“ и вышел со своими сослуживцами на балкон. Он говорил им о конце культуры и о том, как организована партия, устроившая демонстрацию („перевернутая церковь“ или нечто близкое к этому). Он заметил, что „сослуживцы“ слушают его неприязненно, и лишь потом узнал, что оба они – цекисты и лишь до поры до времени отсиживаются в „Союзе городов“, выжидая, пока пробьёт их час. Он называл мне их имена. Один, кажется, был Зиновьев, другой – Каменев. Балконный разговор „по душам“ навсегда определил отношение „сослуживцев“ к Мандельштаму».
Да какое же отношение? Отношение как к опальному принцу, кагальному «анфан тэрриблю», способному нагрубить жене члена политбюро или дать пощёчину великому и ужасному Блюмкину. Но «милые ссорятся только тешатся». Сама Хазина писала в другом месте:
«Мы всё же принадлежали к привилегированному сословию, хотя и второй категории».
«Иногда Мандельштама принимали за своего, и он тоже получал кулек. С 20-го до ареста в мае 34-го мы получали продукты в пышном распределителе, где у кассы висело объявление: „Народовольцам вне очереди“».
Хорошая фраза: «принимали за своего». Теперь только остаётся выяснить, почему же «принимали», по какому такому признаку? А по этому по самому. Русскому ам-гаарецу («от земли») нужно было показать себя в деле, быть ортодоксом из ортодоксов (да ещё желательно бы на евреечке жениться), вот тогда, МОЖЕТ БЫТЬ, впустили бы и в распределитель. А благороднейшему, элитарнейшему Мандельштаму, потомку раввинского рода, ничего выскуливать не требовалось. Брал что положено. Но вот свистнул эпиграммой, когда уже свистеть нельзя было. Пошло по «нашим», передавалось хохочущим шепотком и дошло до Самого. Ещё года три-четыре назад Сам посмеялся бы вместе со строптивым соловьём. Ведь ходили и песенки, и эпиграммы, и дружеские шаржи, и анекдоты даже про Ленина, и смеялись все. Все же родные, родственники, друзья. Из одного кагала, с одного балкона. А тут уже, к 1934, время изменилось. По другой схеме, в иерархию восточную кристаллизовываться стало. Кагал (улица) стал превращаться в государство. А Мандельштам не вписался в поворот. И хотя Ягода же, хохоча, цитировал злополучную частушку, он же его и оформил. Ещё как «своего», больше чтоб попугать. Но выстраивалось дальше, дальше. Полетели головы покровителей. И вот тогда уже сего «антисоветчика»… А не убрали бы Мандельштама, Бабеля и др., жили бы и жили. Ещё бы 50-летие советской власти отпраздновали, звеня медалями лауреатов и поднимая заздравные чаши. Как Эренбург. (А Есенин не вынес. Он не мог внутрь кагала попасть. Не мог там жить, хотя в известный момент и скребся. Чужак. Не вынес. Повесился.)
И чувство главное тут какое? Злорадство? Нет, жалость. «Собрались жить». Они в 30-х понесли печатать стихи, а из редакции выбежал хохол Оптимистенко в косоворотке и на ходу бросил: «Не треба!» Может ли быть большее издевательство? За что боролись? Стояли на балконе, а внизу катилось солдатское бородатое месиво (282)ам-гаарецов, украденного скота египтян. Гордый сефард повернул медальный иудейский профиль: «Это есть быдло. Конец культуры». А ему приземистые ашкенази: «Ничего, окультурим. Научим сопли подтирать». «А русский мужичок оказался грубее». Оторвал балкон и понёс, понес к Фонтанке. (295)Хазина, её вопль на каждой странице мемуаров: «Моего Осю убили!» И собаку жалко под трамваем. А Берлиоз – человек. И его круглая, такая удобная голова покатилась по крутой русской улице окровавленным колобком. «Не треба!» (293)
274
Примечание к №265
Бердяев договорился до того, что его русская идея правильная, а русский народ неправильный
Даже ещё интересней. Николай Александрович мыслил себя неким верховным столоначальником (279), обладающим исключительной прерогативой «принимать в русскую идею» того или иного отечественного мыслителя.
В «Русской идее» он писал:
«Во всяком случае, верно то, что идеи Данилевского были срывом в осознании русской идеи и в эту идею не могут войти».
Или о последователе Данилевского, Леонтьеве:
«Ему чужда русская человечность … К.Леонтьев одинокий мечтатель, он стоит в стороне и выражает обратный полюс тому, на котором формировалась русская идея … Следовать за Леонтьевым нельзя, его последователи делаются отвратительными».
Но ведь национальная идея должна охватывать всех – исключений из НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ нет. Да ещё таких громадных исключений, как Леонтьев и Данилевский. Национальная идея это то общее, что объединяет всех представителей данной нации, тот, по выражению самого Бердяева, «мистический осадок», который остаётся в судьбе человека после исключения всех социальных, политических и классовых факторов. Бердяев вывел себя за пределы национальной идеи, поставил себя над ней и тем самым неизбежно свел национальное как раз к социальному, политическому, классовому. Русская идея свелась к «идее освобождения России».
275
Примечание к №262
униженное, нелепое шныряние по коридорам
Господи, зачем Ты дал мне разум, волю, жизнь… а веру в Тебя не дал?
276
Примечание к №262
Он сам околдован своим колдовством
Например, я, как и любой философ, провидец. Но что мне делать со своим даром? Провидцы слепы в реальной жизни. Любимым примером этого для меня является второе письмо о философии, написанное Хомяковым Самарину. Развивая некую мысль, Хомяков позволил себе следующее сравнение:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
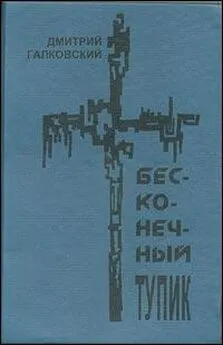

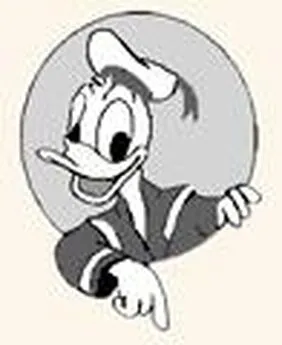

![Дмитрий Галковский - Николай Ленин. Сто лет после революции. 2331 отрывок из произведений и писем с комментариями [publisher: SelfPub]](/books/1058977/dmitrij-galkovskij-nikolaj-lenin-sto-let-posle-re.webp)