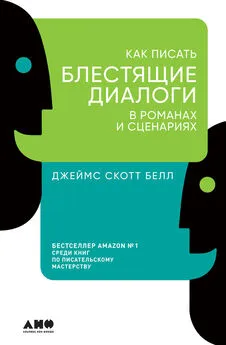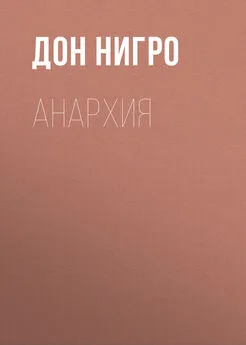Джеймс Скотт - Анархия? Нет, но да!
- Название:Анархия? Нет, но да!
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джеймс Скотт - Анархия? Нет, но да! краткое содержание
Книга американского профессора-антрополога Джеймса Скотта состоит из кратких очерков, которые на реальных примерах развенчивают эти и другие мифы. Следует отметить, что автор не считает себя анархистом, что позволяет ему взглянуть на анархические идеи как бы со стороны.
Книга «Анархия? Нет, но да!» подойдет всем, кто интересуется альтернативными формами общественного устройства и при этом не носит розовые очки.
Анархия? Нет, но да! - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Почти в самом конце моего пребывания на ферме в Нойбранденбурге произошло более значительное событие, которое приковало всеобщее внимание к вопросу нарушения закона. Небольшая заметка в местной газете сообщала, что анархисты из Западной Германии (оставался ещё месяц до формального воссоединения двух частей Германии) возили на грузовой платформе из одного восточногерманского города в другой огромную статую из папье-маше и выставляли её на городских площадях. Выглядела она как бегущий человек, частично замурованный в гранит, а называлась «Памятник неизвестным дезертирам обеих мировых войн». На статуе была надпись «Посвящается человеку, который отказался убивать другого человека».
Меня впечатлил этот великолепный анархистский жест, эта игра на контрасте с почти универсальным образом неизвестного солдата, этого безвестного пехотинца, который пал смертью храбрых, воюя за свою страну. Даже в Германии, даже в той её части, которая совсем недавно называлась Восточной Германией и была «первым социалистическим государством на немецкой земле», этот жест вызывал неприязнь. Неважно, насколько далеко зашли прогрессивные немцы в своём отрицании нацизма, они всё ещё, не сомневаясь, восхищались верностью и самопожертвованием гитлеровских солдат. Бертольд Брехт мог бы сказать, что бравый солдат Швейк, этот противоречивый персонаж чешской литературы, предпочитавший битве за родину сосиски и пиво в теплом местечке, и есть пример народного пацифизма. Но городским администрациям в год заката ГДР при виде этой провокации из папье-маше было не до шуток. Статуя красовалась на городской площади ровно до тех пор, пока городские власти не запрещали её. Так она и путешествовала: из Магдебурга в Потсдам, из Потсдама в Восточный Берлин, из Восточного Берлина в Биттерфельд, из Биттерфельда в Галле, из Галле в Лейпциг, из Лейпцига в Веймар, из Веймара в Карл-Маркс-Штадт (Хемниц), из Хемница в Нойбранденбург, из Нойбранденбурга в Росток, а оттуда уже в Бонн — федеральную столицу ФРГ. Один за другим города изгоняли эту инсталляцию, что сопровождалось неизбежным в таких случаях резонансом. По-видимому, именно этого и добивались организаторы.
Этот яркий перформанс вкупе с пьянящей атмосферой первых двух лет после падения Берлинской стены был заразителен. Вскоре прогрессивно мыслящие люди и анархисты по всей Германии создали десятки собственных памятников дезертирам. Поразительно, что поступки, обычно считающиеся уделом трусов и предателей, внезапно признали почётными и даже в некоторой степени достойными подражания. Неудивительно, что именно Германия, которая определенно заплатила очень высокую цену за патриотизм на службе бесчеловечного режима, была одной из первых стран, где публично подвергли сомнению ценность послушания и стали устанавливать памятники дезертирам на площадях — рядом с мемориалами Лютеру, Фридриху Великому, Бисмарку, Гёте и Шиллеру.
Рис. 1.1. Памятник Неизвестному дезертиру, автор Мехмет Аксой, Потсдам. Фото предоставлено Фолькером Мёрбицем, Монтеррейский институт международных исследований.
Фрагмент 2
О важности неповиновения
Акты неповиновения интересны нам, когда они служат примером, а особенно, когда, уже став примером, они запускают цепную реакцию, вызывая в остальных желание подражать. В таком случае мы видим не просто индивидуальный протест, порожденный трусостью или совестливостью — а может быть, и тем, и другим, — но социальное явление с возможными значительными политическими последствиями. Многократно умножаясь, такие маленькие поступки могут в конечном счёте не оставить камня на камне от придуманных генералами и президентами планов. Обычно такие маленькие протесты не освещаются в прессе, но так же, как миллионы полипов исподволь превращаются в коралловый риф, так тысячи тысяч актов неповиновения и уклонения создают экономический или политический барьерный риф.
Заговор молчания с обеих сторон окутывает подобные поступки анонимностью. Те, кто совершают их, редко стремятся привлечь к себе внимание: залог их безопасности — незаметность. Со своей стороны, правительство тоже не горит желанием привлекать внимание к растущему числу протестов, поскольку не хочет, чтобы они вдохновляли остальных и показывали слабость легитимной власти. В результате обе стороны дружно замалчивают случившееся, из-за чего такие формы неподчинения почти не отражаются в исторических источниках.
Вместе с тем такие поступки, которые я в другом месте назвал «формами повседневного сопротивления», имеют и имели громадное, зачастую решающее влияние на режимы, государства и армии. Поражение Конфедерации в годы гражданской войны в США можно почти наверняка объяснить кумулятивным эффектом многочисленных случаев дезертирства и неповиновения. Осенью 1862 года, спустя год с небольшим после начала войны, на Юге случился большой неурожай. Солдаты, особенно из штатов, свободных от рабства, получали письма от голодающей родни с просьбами вернуться домой. Многие из них последовали этим призывам, порой дезертируя целыми подразделениями и с оружием, и по возвращении домой в большинстве своем активно сопротивлялись повторному призыву до самого конца войны.
После решающей победы северян при Мишинери-Ридж зимой 1863 года стало понятно, что поражения Конфедерации осталось ждать недолго, и поэтому из войск Юга началось массовое бегство солдат, по большей части малоземельных рекрутов, которые не были прямо заинтересованы в сохранении рабства, тем более ценой собственных жизней. Их отношение к войне хорошо выражалось лозунгом «Воюют богачи, а умирают бедняки», особенно ярко иллюстрировавшим закон, по которому богатые плантаторы, владеющие более чем двадцатью рабами, могли оставить одного из своих сыновей дома — предположительно, для присмотра за рабами. С учётом всего вышесказанного получается, что всего дезертировало или вовсе уклонилось от призыва порядка четверти миллиона годных к военной службе мужчин призывного возраста. К этому удару по Конфедерации, армия которой и без того проигрывала в численности, добавилось и то, что многие рабы, особенно из приграничных штатов, перебегали к северянам и записывались в армию, чтобы сражаться на стороне Севера.
Наконец, очевидно, что остальные рабы, ободрённые успехами северян и не желавшие утруждаться производством военной продукции, работали так медленно, насколько это было возможно, и часто сбегали в такие места, как болота Грейт-Дисмал-Суомп на границе между Вирджинией и Северной Каролиной, где их было сложно найти. Тысячи и тысячи дезертирств, прогулов и побегов, которые были незаметны и не должны были быть обнаружены, усилили военную и промышленную мощь Севера и, вполне возможно, стали решающим фактором в окончательном поражении сил Конфедерации.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

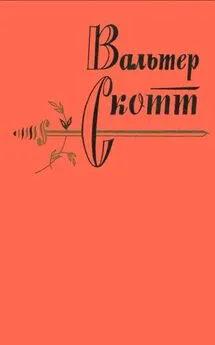
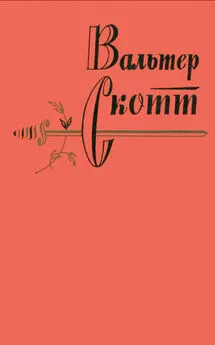
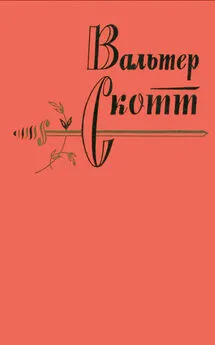
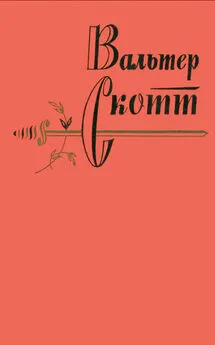
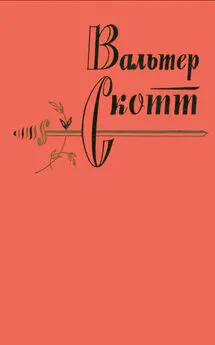


![Джеймс Скотт - Искусство быть неподвластным [Aнархическая история высокогорий Юго-Восточной Азии]](/books/1095803/dzhejms-skott-iskusstvo-byt-nepodvlastnym-anarhicheskaya-istoriya-vysokogorij-yugo-vostochnoj-azii.webp)