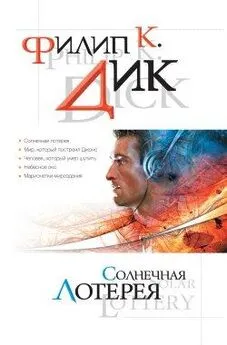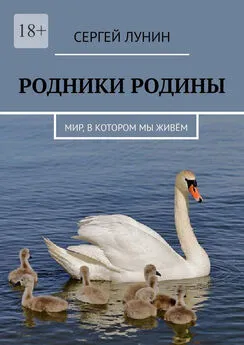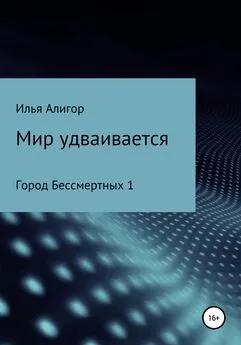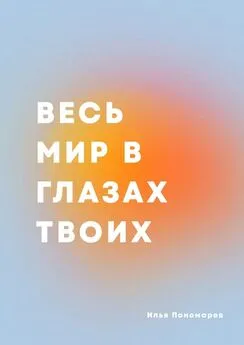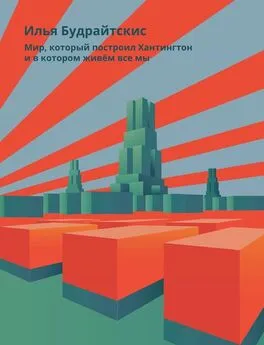Илья Будрайстскис - Мир, который построил Хантингтон и в котором живём все мы. Парадоксы консервативного поворота в России
- Название:Мир, который построил Хантингтон и в котором живём все мы. Парадоксы консервативного поворота в России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «ЛитРес», www.litres.ru
- Год:2019
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Илья Будрайстскис - Мир, который построил Хантингтон и в котором живём все мы. Парадоксы консервативного поворота в России краткое содержание
Мир, который построил Хантингтон и в котором живём все мы. Парадоксы консервативного поворота в России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Гегелевская философия превращена Ильиным в идеологию, лишённую внутренней негативности, относительности любой политической или религиозной формы внутри исторического движения. Вместо диалектической философии становления мы получаем господство неизменной этической формы вечного «духовного компромисса», соответствующей неподвижной субстанциальности православного государства, вечного союза воина и монаха. Его врагом, т. е. неизменным Злом, выступает любая личность или группа, восставшая против обстоятельств своего существования. Сопротивление власти всегда произвольно, а его подавление всегда осенено Добром и вооружено отрицающей Любовью. Мораль полицейского
На заре путинской эпохи, в 2001 году, генерал милиции Татьяна Москалькова стала доктором философских наук, защитив диссертацию на тему «Культура противодействия злу в деятельности правоохранительных органов». Размышления Ивана Ильина стали одним из главных теоретических ресурсов её работы. «В культуре правоохранительной деятельности», писала Москалькова, «мораль и право сливаются воедино». Вызовы, с которыми сталкивается государство – организованная преступность, экстремизм и терроризм – имеют прежде всего этическую природу и укоренены в неограниченной свободе проявления человеческих желаний. В этой ситуации роль полицейского не может быть ограничена формальными требованиями закона, но связана с постоянной функцией воспитания в гражданах «чувства должного». Данные законом полномочия, предполагающие применение полицейским физического насилия и методов принуждения, требуют от него постоянной моральной само-рефлексии, основанной на «духовно- нравственном очищении и православно-христианском покаянии». Сила меча в борьбе со злом должна дополняться силой внутреннего убеждения в собственной правоте и опираться на фундамент православной веры. Именно поэтому, резюмирует Москалькова:
Особую роль в обучении и воспитании сотрудников правоохранительных органов имеет приобщение к теоретическому наследию И. А. Ильина, в котором представлены основы культуры активного сопротивления злу вплоть до применения силы при наличии определённых условий [32].
Через несколько лет после защиты диссертации Москалькова станет депутатом Государственной Думы, а с 2016 года – Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. За всё это время её позиция никогда не выглядела радикальной, но скорее более-менее точно отражала общий «здравый смысл» российского МВД [33]. Повышенное внимание к проблематике нравственного «зла», которое нуждается в постоянном укрощении при помощи насилия, за последние два десятилетия стало центральной установкой полиции по отношению к обществу. Это представление о том, что сотрудник полиции или спецслужб не может оставаться морально- нейтральным инструментом, защищающим букву закона, но источником постоянного нравственного воздействия. Даже там, где он превышает полномочия, он, как представитель государства, «прав в своём принципе», так как преследует благую цель. При этом его цель определяется не внутренним нравственным чувством, а принадлежностью к структуре, возвышающейся над грешной и своевольной личностью. Прибегая к насилию, даже выходящему за рамки закона, полицейский сознательно впускает зло внутрь себя – так как совершенно точно знает, что его ждёт искупление.
Обоснованный Ильиным «союз воина и монаха» фактически заполнил идеологический вакуум репрессивных органов государства, образовавшийся после крушения «реального социализма». Теперь их деятельность лишена телеологии, она не предполагает, что «эра милосердия» – общественная гармония, свободная от преступлений и насилия – когда-либо будет достигнута. Сегодня полицейский становится участником вечной моральной битвы, столкновения добра и зла, в которой носителем первого по определению является власть государства, а носителем второго – человеческая личность. Из этого прямо следует и то глубокое подозрение к самому понятию «прав человека», которое укоренено в коллективном сознании российских репрессивных структур. Апелляция к этим «правам» неслучайно представляется как один из ключевых инструментов в борьбе Запада против России, так как любое расширение автономии личности оказывается прямо тождественным укреплению социального «зла» и разложению государственного порядка.
Эта рациональность силовых структур, опирающихся на идею о своей моральной миссии, – «отрицающей любви», стоящей выше закона – в последние годы выражается в стремительном распространении пыток. Избиение заключённых в тюрьмах или пытки электрошоком подозреваемых в «экстремизме» сегодня выглядят не исключением, но новой нормой, по умолчанию усвоенной российским государством [34]. Момент Толстого
В 1906 году молодой Иван Ильин приехал в Ясную Поляну, чтобы встретиться с Львом Толстым. Полный впечатлений, он позже писал своей родственнице:
Отличительная черта гения – трагическая борьба за органически- единое узрение Несказанного в элементе мысли и в элементе художественного – была свой ственна Толстому в особом, своеобразном роде, и это я почувствовал с большой определённостью [35].
Вероятно, это именно та причина, по которой Толстой не сможет быть никогда полностью идеологически адаптирован современным российским государством как один из великих писателей, составивших славу «исторической России». Стирая границу между искусством и этикой, Толстой остаётся вечным напоминанием о нечистой совести правящего класса. Той самой, которая в начале романа «Воскресение» заставляет аристократа Неклюдова, заседающего в суде присяжных, неожиданно почувствовать себя не судьёй, но подсудимым. Моральная философия Ильина, изложенная в «Сопротивлении злу силой», не просто избавляет господствующих от переживания собственной вины, но превращает отсутствие сострадания в возвышенную необходимость и гражданский долг.
О пассивном и активном консерватизме Пассивный консерватизм и верность настоящему
В своём известном эссе Самуэль Хантингтон находил ироничным [36], что консерватизм, как идеология, постоянно апеллирующая к истории и традициям, сама не сводится к каким-либо конкретным историческим основаниям и традиции. Рассматривая прошлое в качестве фундамента настоящего, консерватизм принимает это прошлое целиком, во всём множестве его внутренних противоречий и разрывов. Прошлое волнует консервативную мысль не в виде завершённого идеального образа, противопоставленного современности, но как продолжающийся опыт, через который переживается полнота и ценность текущего момента. Консерватизм опирается на историю лишь в её динамической связи с настоящим, – историю, которая стала «актуальной и ощутимой» [37]. Именно эта одержимость настоящим сообщает консерватизму предельную анти-метафизичность, враждебность любым нормативным доктринам и утопиям [38]. Консерватизм скептичен ко всему, что претендует на выход за пределы данного. Такой скепсис, в свою очередь, обращается догматической приверженностью данному – консерватизм «не показывает как должно быть, но лишь как быть не должно» [39].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
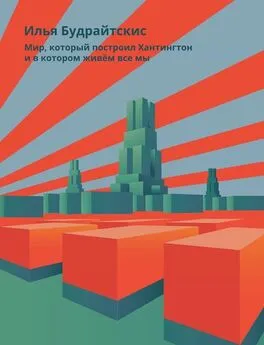
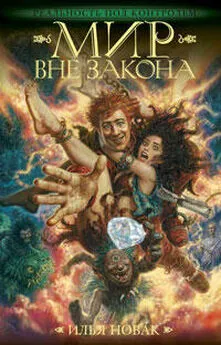
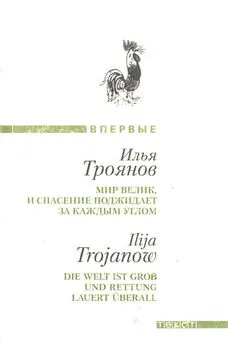


![Илья Игоревич - Не этот Мир [СИ]](/books/1091188/ilya-igorevich-ne-etot-mir-si.webp)