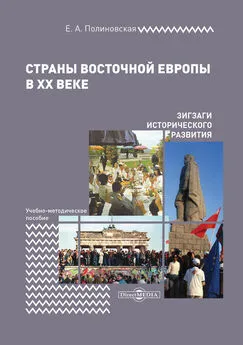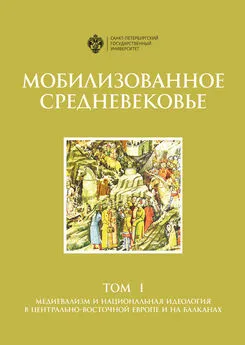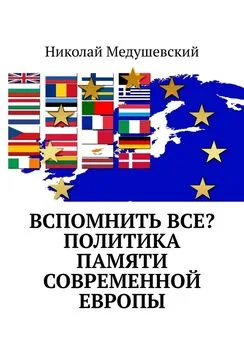Евгения Лёзина - ХX век: проработка прошлого. Практики переходного правосудия и политика памяти в бывших диктатурах. Германия, Россия, страны Центральной и Восточной Европы
- Название:ХX век: проработка прошлого. Практики переходного правосудия и политика памяти в бывших диктатурах. Германия, Россия, страны Центральной и Восточной Европы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1582-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгения Лёзина - ХX век: проработка прошлого. Практики переходного правосудия и политика памяти в бывших диктатурах. Германия, Россия, страны Центральной и Восточной Европы краткое содержание
ХX век: проработка прошлого. Практики переходного правосудия и политика памяти в бывших диктатурах. Германия, Россия, страны Центральной и Восточной Европы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Особую значимость тема памяти приобретает в обществах, переживших крах репрессивных – тоталитарных или авторитарных – режимов. В подобных социальных контекстах апелляция к прошлому связана в первую очередь с попытками поиска новых оснований коллективной идентификации. Запрос на память в посттоталитарных обществах – от послевоенной Германии до большинства восточноевропейских стран бывшего советского блока, включая страны бывшего СССР, – свидетельствует о тесной взаимосвязи понятий коллективной памяти и социальной идентичности, неоднократно отмечавшейся в ряде исследований [103] Процессы коллективной идентификации и коллективных воспоминаний отождествлялись, к примеру, в работах Яна Ассмана, Джона Джиллиса и др.: Assmann J. Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. München: C. H. Beck, 1999; Gillis J. R. Memory and Identity: The History of a Relationship // Gillis J. R. (ed.) Commemorations: The Politics of National Identity. Princeton : Princeton University Press, 1994. P. 3–24.
. Социальная идентичность, понимаемая как переживание индивидом собственной принадлежности к той или иной группе, некоему общему «мы», во многом определяется общностью памяти и забвения тех или иных событий прошлого. Политика памяти, определяющая те аспекты истории, которые представляются национально значимыми и которые, следовательно, предстоит сохранить в памяти или предать забвению, имеет прямое отношение к процессам коллективной идентификации, к созданию того или иного образа общего «мы» [104] Хальбвакс М. Коллективная и историческая память / Пер. с фр. // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3 (40–41). С. 8–27.
.
Однако острота проблематики памяти в посттоталитарных обществах обусловлена не только крахом прежней идентичности и необходимостью поиска новой. Важен еще сам факт обретения памяти обществом, выходящим из-под жесткого государственного контроля над публичной и частной сферами. Репрессивный характер тоталитарного режима проявляется не только в блокировке возможности воспроизводства индивидуальной памяти, пережитого опыта, но и в установке на уничтожение самой памяти. Не случайно Примо Леви, проведший несколько месяцев в нацистском Аушвице (Освенциме) и подробно описавший впоследствии этот опыт, называл всю историю Третьего рейха «войной против памяти» [105] Леви П. Канувшие и спасенные / Пер. с ит. М.: Новое издательство, 2010. С. 17–27.
.
О лишении общества памяти неоднократно свидетельствовали и очевидцы сталинского террора. Так, по воспоминаниям Надежды Мандельштам, в сталинскую «программу уничтожения входило и искоренение свидетелей», а по убеждению другого значимого свидетеля тех лет, Анны Ахматовой, для осмысления, «подытоживания» этого опыта «убийства памяти» «потребуется еще столетие, не менее», поскольку «мертвые молчат, а живые молчат, как мертвые: иначе рискуют тоже превратиться в мертвых» [106] Мандельштам Н. Воспоминания. М.: Согласие, 1999. С. 106; Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. М.: Время, 2007. Т. 2. С. 532; Т. 3. С. 54.
.
Исследователь Сабина Арнольд использовала термин «оккупированная память» для описания репрессивного и манипулятивного контроля органов государственной власти над процессами формирования памяти. Арнольд обращала внимание на то, что в ситуации «оккупированной памяти» социальная память перестает выполнять обычные задачи по хранению и переработке информации, с одной стороны, и по формированию идентичностей и созданию смыслов – с другой [107] Sabine A. Stalingrad im sowjetischen Gedächtnis. Kriegserinnerung und Geschichtsbild im totalitären Staat. Bochum: Projekt, 1998. S. 18. Дифференциация функций памяти — хранение и функциональная память — была впервые предложена историком культуры Алейдой Ассман. См.: Assmann A. Funktionsgedächtnis und Speichergedächtnis. Zwei Modi der Erinnerung // Platt K., Dabag M. (Hrsg.) Generation und Gedächtnis. Erinnerung und kollektive Identität. Wiesbaden: Opladen, 1995. S. 169–185; Eadem. History, Memory, and the Genre of Testimony // Poetics Today: International Journal for Theory and Analysis of Literature and Communication. 2006. Vol. 27. No. 2. P. 261–273.
. Поскольку доступ к архивам в тоталитарных государствах ограничен или запрещен, независимая систематизация, экспонирование, обработка, интерпретация и представление памяти здесь блокируются, и производится мифологизация исторических конструктов, служащая цели репрезентации ценностей национальной консолидации [108] Volk Ch. Stalinism, Memory, and Commemoration: Russia’s Dealing with the Past // The New School Psychology Bulletin. 2009. Vol. 6. No. 2. P. 53.
.
Социальный философ Джеймс Бут, отмечавший склонность национальных государств «национализировать» коллективную память, подвергать изгнанию групповые воспоминания меньшинств, предупреждал об опасностях государственной монополии над коллективной памятью. Ибо восставшая в тот или иной момент память-идентичность меньшинств, стремящаяся либо к восстановлению подавленной при диктатуре коллективной памяти, либо к множественности сообществ памяти как оппозиции гомогенизации национального нарратива, может «нарушить унитарную, всепоглощающую официальную версию прошлого» [109] Booth J. W. Communities of Memory: On Witness, Identity, and Justice of Memory. Ithaca: Cornell University Press, 2006. P. 175.
.
Важным следствием распада тоталитарной системы является не только острый кризис идентичности, необходимость поиска новых оснований коллективной идентификации, но и высвобождение индивидуальной и коллективной памяти различных сообществ (этнических, религиозных и пр.), репрессированной в условиях диктатуры. Появление свободы высказывания как следствие краха прежнего режима способствует выходу на поверхность индивидуальных воспоминаний. Подобное освобождение памяти, однако, еще не является гарантией обретения обществом коллективной памяти о случившемся, поскольку, по справедливому замечанию социолога Льва Гудкова, «все пережитое частным человеком, прежде всего – нерефлексивное страдание, уходит в никуда, если только оно не подверглось институциональной или специализированной проработке, если оно не пущено на другие каналы культурного воспроизводства, если частные мнения не санкционированы какой-то инстанцией, имеющей ранг надындивидуального образования» [110] Гудков Л. «Память» о войне и массовая идентичность россиян // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3 (40–41). С. 46–57.
. Как отмечал исследователь исторической памяти Вульф Канштайнер, «все воспоминания, включая воспоминания свидетелей, очевидцев, приобретают коллективную значимость, только если они структурированы, представлены и использованы в социальной среде. В результате средства представления, обеспечивающие данный процесс, помогают наилучшим образом проследить эволюцию коллективных воспоминаний, особенно когда мы пытаемся восстановить, реконструировать их постфактум» [111] Kansteiner W. In Pursuit of German Memory: History, Television, and Politics after Auschwitz. Athens: Ohio University Press, 2006. P. 21.
.
Интервал:
Закладка:



![Фрэнсис Дворник - Центральная и Восточная Европа в Средние века [История возникновения славянских государств] [litres]](/books/1060850/frensis-dvornik-centralnaya-i-vostochnaya-evropa-v-s.webp)