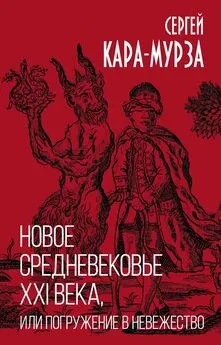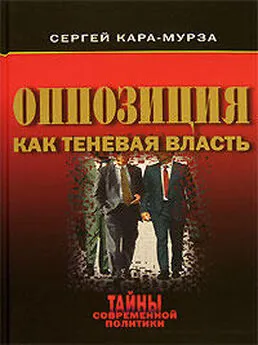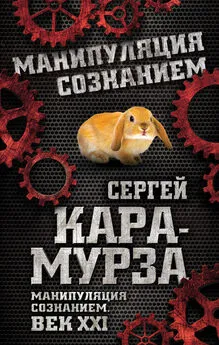Сергей Кара-Мурза - Новое средневековье XXI века, или Погружение в невежество
- Название:Новое средневековье XXI века, или Погружение в невежество
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «Издательство Родина»
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-00180-291-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Кара-Мурза - Новое средневековье XXI века, или Погружение в невежество краткое содержание
Сергей Георгиевич Кара-Мурза, выдающийся российский ученый, социолог и политолог, впервые провел полный и всесторонний анализ «нового средневековья» в своем фундаментальном исследовании, материалы для которого он собирал в течение тридцати лет. Здесь разбираются причины этого исторического явления, его характерные черты в политике, обществе, культуре, говорится о носителях и противниках новой средневековой идеологии. В книге приводится огромное количество фактического материала, основанного на сотнях различных источников.
Новое средневековье XXI века, или Погружение в невежество - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вебер, изучая и сравнивая процессы развития в обществах, определил изменения форм и структур как зародыши появления новых общественных институтов. Он ввел в социологию важное понятие: общество в состоянии становления [3] Это аналогия понятия натурфилософии, обозначающего состояния вещества в момент его рождения — in statu nascendi .
.
В начале XX в., во время кризиса классической физики и изменения научной картины мира, возникла новая парадигма — « постклассическая ». В науке стали различать два взгляда на природу: науку бытия — видение мира как совокупности стабильных процессов, и науку становления , когда преобладают нестабильность, переходы порядок — хаос , перестройка систем, кризис старого и зарождение нового. Парадигму науки становления часто называют нелинейной . Сразу заметим: марксизм, в общем, исходил из принципов « науки бытия » (исторический процесс как этапы состояния равновесия), а Ленин освоил и ввел в партийную мысль принципы « науки становления » (исторические изменения как неравновесные кризисные состояния).
Из модели мира Ньютона как машины с ее «сдержками и противовесами» выводились новые концепции свобод, прав, разделения властей. «Переводом» этой модели на язык государства и экономики были, например, политэкономии А. Смита и Маркса. Механицизм — представление любой реальности как машины — обладал большой силой внушения [4] В тот исторический момент сложились счастливые условия: культура России переживала подъем, особенно в главной массе населения — крестьян, рабочих и городского среднего класса, они еще не были атомизированы и вели интенсивные диалоги или коллективные рассуждения. Это поставило сильный заслон невежеству. Все это и позволило в ходе революции произвести мировоззренческий синтез общинного крестьянского коммунизма с идеалами Просвещения .
.
Процесс размежевания групп довел до революции 1905 г. — меньшевики (эсеры и др.) «стремились удержать ее в том же состоянии их парадигм» (истмат — наука бытия ), а большевики «стремились к изменению структуры системы» ( наука становления ).
В те времена (начало XX в.) было очевидно: и меньшевики-марксисты, и легальные марксисты, и кадеты, и эсеры, и западные социал-демократы мыслили и проектировали кардинально иначе, чем Ленин и его соратники. Они по-разному понимали пространство и время, следовали разным способам и нормам мышления и объяснения, — при разрешении внешне одной и той же проблемы они принимали разные решения . Поэтому проект Октябрьской революции был совершенно иным , чем у Февральской революции.
Так исток Российской революции распался. Сразу после Апрельских тезисов лидер эсеров Чернов назвал их воплощением «фантазий народников-максималистов». Г. В. Плеханов сказал: «Россия страдает не только от того, что в ней есть капитализм, но также от того, что в ней недостаточно развит капиталистический способ производства. И этой неоспоримой истины никогда еще не оспаривал никто из русских людей, называющих себя марксистами».
Кадеты и меньшевики (скрепя сердце) приветствовали Февральскую революцию как сверхпартийную. 3 июня 1917 г. на совещании П. Н. Милюков сказал: «Она есть революция национальная, революция всенародная, т. е. она объединяет в себе все классы и все общественные группы и ставит перед собой задачи, которые должен осуществить весь народ, которые только весь народ и может осуществить». Он даже сказал — это «наша» революция.
Этот образ революции люди поняли как приближающуюся катастрофу — синтез взрывной смеси. А «февральские» власти, не поняв побочных процессов, сами пошли в невежество . Так, власти не успели понять картину мира России и что новые поколения крестьян потребовали социальное равенство , — а им устроили столыпинскую реформу [5] «Социальное неравенство не выглядит и не является проблемой, ибо объективное неравенство в этих обществах воспринимается как часть божественного порядка… Во второй половине XIX века открытие социального неравенства и требование равенства было осмыслено как часть грандиозного духовного переворота того времени, положившего начало новой культурной эпохе» [117].
. Это было невежество государства . В ответ 21 апреля 1917 г. в Петрограде прошла демонстрация против этой политики правительства, и она была обстреляна — впервые после Февраля. Так писали: «дух гражданской войны повеял над городом».
Уникальность Февральской революции 1917 г. в том, что с первых ее дней в стране стали формироваться прототипы двух моделей государственности — буржуазная республика и советская власть одновременно, поначалу даже без взаимного насилия. Временное правительство и Советы находились на двух разных и расходящихся ветвях цивилизации. То есть их соединение было невозможным. Напор страстей в дни Февральской революции был краткосрочным (4 месяца), и эти страсти были праздничными. Пришвин записал в дневнике (5 июля 1917 г.), что либеральная революция потерпела крах, Россия пошла по какому-то совершенно иному пути: «Елецкий погром — это отдаленный раскат грома из Азии, и уже этого удара было довольно, чтобы все новые организации разлетелись, как битые стекла. Эта свистопляска с побоями — похороны революции».
Подавить либеральную революцию могли только «силы, развившиеся внутри самой революции» — синтез Советов с большевиками. И эта сила была именно «направлена к созданию новой жизни и против всякой реакции» (см. [662]). В результате большевики въехали в состояние in statu nascendi на спине либеральной революции, используя ее энергию.
Решающую роль в Гражданской войне сыграло поколение тех, кому в 1905 г. было от 15 до 25 лет, а в 1918 г. исполнилось от 28 до 38 лет. Т. Шанин пишет: «К этому времени многие уже успели отслужить в армии, стали главами дворов, т. е. вошли в ядро общинного схода. Основными уроками, которые они вынесли из опыта революции 1905–1907 гг., была враждебность царизма к их основным требованиям, жестокость армии и “власти”, а также их собственная отчужденность от “своих” помещиков и городских средних классов» [411, с. 301].
Таким образом, рассматривая обе революции как два «политических бунта», надо сравнить их структуры . Грубый анализ дает представление о стержнях проектов и образах системы. Мы уже упоминали, что главные тексты того времени показывают общество, разделенное на группы — одни стремятся к изменению структуры системы, а другие пытаются удержать ее в том же состоянии. Так было с Февральской революцией — ее группы шли по старому вектору, и они погружались в невежество . А группы со стороны Октябрьской революции (крестьяне, рабочие, солдаты и интеллигенты) пошли по дорогам становления. Они неявно увидели и поняли необратимости, неравновесия и нелинейные процессы. Благодаря этим переходам « порядок — хаос » наши люди сразу в ином свете представили системы противоречий.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: