Модест Колеров - Сталин: от Фихте к Берия
- Название:Сталин: от Фихте к Берия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Модест Колеров - Сталин: от Фихте к Берия краткое содержание
Сталин: от Фихте к Берия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Главная черта – внимание к индустриальному перевороту и к научному прогрессу. Их представители берут у реакционеров мысль об органическом характере общества, но вкладывают в неё новое современное содержание. Они видят, что общество стало иным, что в нём господствуют интересы новой промышленности, что оно зависит от новой всесветной организации индустрии, что наука в нём стала мощной направляющей силой, и они пытаются найти регулирующие начала именно для этого общества, движимого новыми мотивами, разбитого по новым группам; из интересов самой индустрии, из общих принципов самой науки пытаются они извлечь новое связующее культурное и даже религиозное начало…
Множество новых видов растительных и животных, и между ними новые виды животного, именуемого человеком, открыли возможность широкого сравнительного изучения. Чем больше сравнивали, тем больше изучали промежуточные виды, больше вытеснялось старое представление о неподвижности форм; больше разгоралось желание, увлекала задача открыть в существующих видах непрерывную цепь развития, схватить в них биение одних и тех же законов жизни. Сильно действовали на общие представления также успехи физики и химии. Открытие магнетизма и электричества, разложение на составные части воздуха и воды, то есть того, что считалось раньше тоже неподвижными элементами, заставляло и в неорганическом мире искать движущих сил, искать возникновения сложных форм и образований из комбинаций простых начал. Между одушевлённой и неодушевлённой природой падали преграды, казавшиеся неодолимыми. Человек был поражён тем, что он находил там и здесь одинаковые составные части… Деятельность общественного организма, вся совокупность жизненных отношений человеческого мира управляется мнениями, идеями. Эта уверенность опирается у Конта на положение ещё более общее, на некоторую основную черту “органических теорий”, как бы возникших из жажды порядка… Если мировой порядок есть порядок логической системы, то пути к постижению этого порядка, то есть науки, должны образовать полное единство : они все работают к открытию единого закона, они должны составить иерархию, скреплённую строгим взаимным подчинением… Особенно это касается высших ступеней жизни, отношений общественных… Начало XVIII в. сознавало живо только одну “всемирную” организацию, именно западноевропейскую литературную республику. Позднее, во второй половине века, стали говорить о всемирной мастерской и всемирном рынке. Перевороты конца XVIII и начала XIX в. создали в европейском сообществе подъём религиозного настроения, и образ человеческого мира сложился уже в виде великой церкви на земле» 123 .
Уже после Гитлера и на закате Сталина, поставленного в фокус «холодной войны», – почти одновременно с названным трудом Х. Зедльмайра классики левой критики капитализма не только не отшатнулись от установления прямой тотальной (и тоталитарной) связи Просвещения как апогея проективного знания, Модерна и «всеохватывающей индустриальной техники», но и подтвердили её со всей решительностью, исключающей компромисс: «Техника есть сущность этого знания. Оно имеет своей целью не понятия и образы, не радость познания, но метод, использование труда других, капитал», «Просвещение – тоталитарно», «Просвещение тоталитарно как ни одна из систем» 124…
Предвосхищая известные мысли Ханны Арендт об исторических корнях тоталитаризма в разрушении общества традиционных связей и перегородок, внимательный наблюдатель, русский православный социалист и антикоммунистический эмигрант Г. П. Федотов (1886–1951) одним из первых описывал современные ему диктатуры в понятиях тоталитаризма. Важно, что он описывал это явление как следствие утраты западной культурой ХХ века некоего Большого стиля: в мире демократии, растущем из достижений XIX века, по его мнению, «культура не имеет своего центра (…) Сейчас кажутся немыслимы ни общая религия, ни общая философия, ни даже общие основы научного знания. Стиль в искусстве утерян ещё ранее, чем в науке. При таких условиях культура всё более разбивается на отдельные секты (…) Более, чем когда-либо, западная культура напоминает вавилонское смешение языков. Находятся люди, которые готовы принципиально утверждать это смешение как духовную основу демократии» 125. Г. П. Федотов и ранее жёстко анализировал принудительный и террористический характер коммунизации СССР, особенно крестьянства, целью которой видел создание «технического рая», здание которое на деле вырастало не как «новый град», а как «новая тюрьма» 126, которая одновременно была «гигантами-заводами» 127. И здесь в радикальном отвержении сталинизма начинала звучать общая с сталинизмом нота социалистической победы над природой и внепартийная, требуемая Просвещением, жажда новой целостности: «современная техника приводит человека к ещё большему рабству… но задача, поставленная историей, верна – освободить человека от рабствования природе» 128. Более того – «марксизм в России развил особый пафос техники, свойственный крупнокапиталистическому миру» 129, то есть – можно договорить эту мысль до конца – именно он достроил крестьянскую страну до индустриального интернационального Большого стиля.
Индустриализм как церковь и реализованная утопия делает сферой Gesamtkunstwerk даже ландшафт и в целом природу, доступную эксплуатации. Первым образом подчинения ландшафта стала его индустриализация и урбанизация, в исторических условиях XIX и начала XX века выраженная в практике прямо связанной с производственными цехами казармы как доминирующего стандарта промышленной городской застройки. В этом стандарте казармы легко узнавались (разумеется, минимальные) параметры фаланстера, который, в свою очередь, служил образующим элементом современного города как замкнутой Вавилонской башни, противостоящей ландшафту и природе. Как свидетельствует урбанист, «согласно строительному регламенту Берлина, принятому в конце XIX в. (и действовавшему до 1925 г.), здесь сооружались дома-казармы с плотностью застройки до 85–90 %; в Париже в <19>20-х и начале <19>30-х годов действовали нормы, допускавшие минимальную величину внутренних дворов в 30 м2, а если во двор выходили комнаты для прислуги и другие подсобные помещения – даже 8 м2; в Нью-Йорке в кварталах, застроенных пятиэтажными домами, допускался размер дворов в 26 м2» 130. И перспективное преодоление этого урбанизма и освобождение народного большинства от реальности этой общегородской казармы виделось революционерам архитектуры и городского планирования не в расселении, а в создании на месте городов сети широко расположенных на озеленённом («природном») ландшафте изолированных – всё тех же в основе своей – гипер-казарм / башен, как то предлагал, например, Ле Корбюзье (1887–1965) для «Плана Вуазен» по перестройке Парижа (1925) – в сети небоскрёбов по 20 000–40 000 жителей в каждом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:





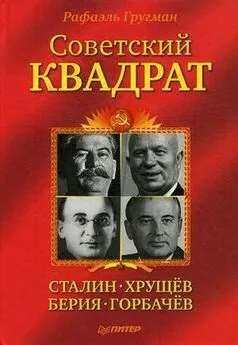
![Модест Колеров - Петр Струве. Революционер без масс [сборник]](/books/1142701/modest-kolerov-petr-struve-revolyucioner-bez-mass.webp)



