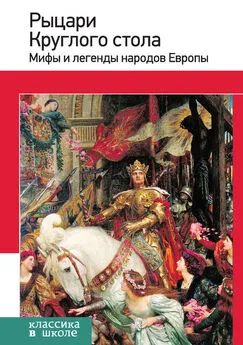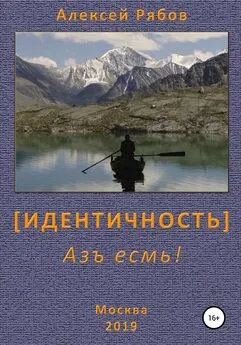Ив Плассеро - Идентичность народов Европы
- Название:Идентичность народов Европы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-4469-1608-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ив Плассеро - Идентичность народов Европы краткое содержание
Настоящая книга-эссе основывается на многолетних исследованиях автора и поднимает комплекс вопросов, связанных с подходами к идентичности современных европейских государств. Автор анализирует взаимоотношения между общеевропейской, национальной и региональной идентичностями и уделяет особое внимание проблемам этнических и лингвистических меньшинств, рассматривая правовые, исторические и культурные аспекты их положения во Франции и в других государствах Европы. Французское издание этой книги стало одним из ключевых трудов серии «Народы в опасности».
Знакомя читателя со многообразием этнополитических ситуаций современной Европы, автор делится с ним размышлениями о судьбах европейского единства.
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Идентичность народов Европы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Бунт идентичностей
Безусловно, давняя эволюция в сторону размывания признаков культурного, лингвистического и социального разнообразия (процесс энтропии) не всегда проходила без сопротивления. Обращаясь к прошлому, мы видим примеры ожесточённой борьбы за сохранение особенностей социально-культурной принадлежности (войны, восстания, бунты, но также и переселение в Америку, в колонии…). Подобная общественная реакция обычно соответствует далеко зашедшим процессам разрушения идентичностей. Как если бы культуры – антрополог Луи Дюмон употребляет термин «коллективные индивидуальности» – проявляли особенно ярко всё своё своеобразие непосредственно перед уходом в небытие. В одной из предыдущих работ мы употребили по этому поводу сравнение с организмом, который при наступлении болезни активно вырабатывает антитела: в последнюю минуту «социальные антитела» изо всех сил мобилизуют отличительные признаки общности, пытаясь справиться с уравнительным действием «прогресса» [14] Plasseraud (Yves). Une et indivisible? P. 95.
.
Этот феномен, который иногда называют «протонационализмом» (как реакцию на уравнивание), начинается в тот период, когда, с приходом индустриальной эпохи [15] Tamŕs (G. M.). Les idoles de la tribu, l’essence morale du sentiment national . Alcantčre, 1991. P. 49.
, процесс искоренения региональных особенностей становится особенно агрессивным. Действительно, национальный подъём конца XVIII в. в Шотландии, Германии и в Италии совпадает с началом индустриальной эпохи и развитием потогонного фабричного производства в Манчестере. Ряд европейских государств становятся независимыми в период между 1850 и 1918 гг.
Вопреки ожиданиям тех, кто предвидел появление в конце XIX в. единообразного общества, всё заметнее становились многочисленные движения «национального», автономистского, индепендантистского и ирредентистского толка. В 1970-е гг. с подъёмом подобных движений связывались большие надежды [16] См., например, Maugué (Pierre). Contre l’État-nation . Paris, Denoël, 1979.
. Но они не привели к конкретным результатам, и о них стали мало-помалу забывать. Но вот в конце XX в., после долгого затишья, просыпаются чувства идентичности, и «во имя защиты культурного своеобразия и права индивидов жить по-своему в родной среде энергично выступают силы, выражающие коллективные идентичности и противостоящие продвижению мондиализации и космополитизма» [17] Castells (Manuel). Le pouvoir de l’identité . Paris, Fayard, 1999. P. 12.
.
Одним из интересных выводов этого периода может быть кажущийся парадокс: продвигается мондиализация и растёт связанная с ней взаимозависимость народов, и при этом множатся «дифференции», энергично провозглашаются различия. Действительно, национальная идентичность отнюдь не есть выражение имманентного коллективного «я», затаённого в недрах группы (как считает культурология); она – производное взаимодействия со всем окружающим миром, и благодаря этому взаимодействию человечество превращается в «мировую деревню» [18] Cahen (Michel). La nationalisation du monde. Europe, Afrique, l’identité dans la démocratie . L’Harmattan, 1999.
.
Продолжая наше наблюдение за идентичностями (или коллективными личностями) в процессе становления, с присущим им обострённым чувством национализма, обратимся теперь к новым европейским обществам, возникшим в рамках государств, которые иногда называют «государствами прерывистого действия» [19] Zavadzki (Paul). «Le nationalisme contre la citoyenneté», in L’année sociologique , 1996. Vol. 46. No. 1. P. 175.
. В качестве примера возьмём особенно близкий нам регион Центральной и Восточной Европы.
Центральная Европа и её глубокие раны
Продолжая дело национального освобождения, до этого начатое в Испании, Греции, Пруссии и подготовленное немецкими философами-идеалистами и итогами наполеоновских войн, революции 1830, 1848 и 1918 гг. проложили путь к свободе ряду европейских народов.
В тридцатые годы, после потрясений Первой мировой войны, последовал резкий подъём националистических тенденций в разных странах (в частности, немецкого национализма), открывший дорогу Второй мировой войне. Советский режим, установленный по её итогам на значительной части нашего континента, вызвал разные формы сопротивления.
Когда в 1991 г. советский строй распался, реакцией на «свинцовые годы» обезличивающей политики стал повсеместный подъём проявлений национализма. Политический контекст бывшей «Восточной Европы» можно условно описать как противостояние двух традиций коллективной памяти: одной, сублимированной, но живой, связанной со многовековой историей, и другой, отмеченной свежим клеймом недавнего периода коммунизма. Оживая, старые противоречия сегодня приобретают особую остроту, поскольку чувства поражения и отчуждения, типичные для жителей этих территорий, создают почву для напряжённого переживания чувства идентичности (Косово, Сербия и т. д.). Национализмы меньшинств и особенно государственный национализм (в Греции, в России, в Сербии, в Турции) опять выходят на передний план и влекут за собой шлейф напряжённости и тягостных последствий [20] Garton-Ash (Timothy). La chaudière. Europe centrale 1980–1990. Paris, Gallimard, 1990. P. 317.
.
В Румынии два миллиона мадьяр вынуждены переносить условия жизни, навязанные им государством, моделью которого является французская якобинская система. Со своей стороны румынский национализм с удовольствием обличает венгерское меньшинство, в котором он видит некую пятую колонну на службе венгерского государства, якобы вынашивающего планы по организации восстания и реванша. Отношения периодически накаляются под воздействием провокаций со стороны румынского ультранационалистического формирования Noua Drapta или венгерской националистической организации Jobbik .
В 1993 г. именно Словакия, национализм которой долгое время подавлялся, способствовала распаду государства, созданного политическими деятелями Бенешем и Масариком между двумя мировыми войнами. Дальше мы увидим, как сегодня некоторые словацкие националисты не гнушаются подчёркивать преемственность, связывающую их с клерикально-фашистским государством священника Йозефа Тисо. Можно привести и много других примеров зон потенциальных конфликтов в этом регионе.
При этом должны ли мы считать, как часто дают понять, что в Восточной Европе проявления идентичности всегда связаны с болезненными обострениями ненависти между этническими группами? [21] Джон Пламенац видит в «восточном» национализме особый опасный феномен. См. Plamenatz (John). «Two types of Nationalism», in Kamenka (E., Ed.) Nationalism, the Nature and Evolution of an Idea , Londres, 1973.
Действительно, в восточной и западной частях континента есть существенная разница в том, как переживаются вопросы принадлежности меньшинств. На Западе борьба «за дело» басков или корсиканцев, несмотря на всю остроту проблемы, привлекает внимание лишь небольшой, непосредственно затронутой части населения. Напротив, когда в Венгрии речь идёт о Трансильвании, или в Греции о Кипре, почти всё население чувствует свою сопричастность. Заметим, что в западной части континента конфликты по поводу идентичности больше не являются выражением этнических конфликтов. Но, например, в Москве, где под влиянием нагнетания великорусского шовинизма [22] Аннексия Крыма в 2014 г. показательна в этом отношении.
провоцируются антикавказские чувства, направленные против «чёрных» (кавказцев), или антилатышские настроения, или в Афинах, где с презрением смотрят на албанцев и турок, можно говорить о том, что этнический «другой» олицетворяет фигуру наследственного врага. Мы ещё вернёмся к этому вопросу.
Интервал:
Закладка:
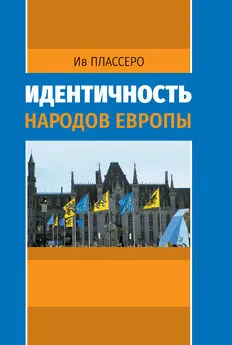

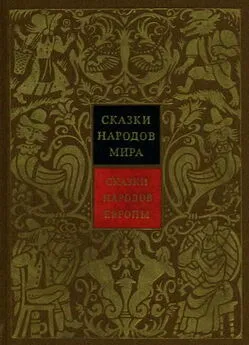
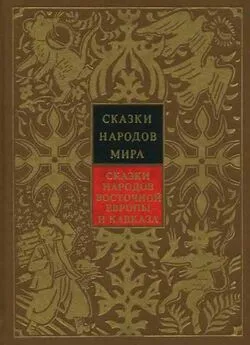
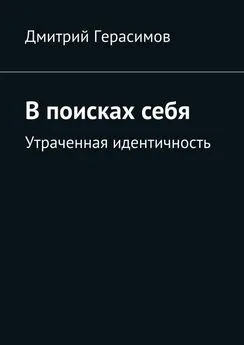
![Ольга Петерсон - Наследники Вюльфингов [предания германских народов средневековой Европы в пересказах Е. Балобановой, О. Петерсон]](/books/1064835/olga-peterson-nasledniki-vyulfingov-predaniya-ger.webp)
![Виктор Лунин - Расскажу вам сказку [Сказки и легенды народов Западной Европы]](/books/1069012/viktor-lunin-rasskazhu-vam-skazku-skazki-i-legendy.webp)
![Ольга Петерсон - Рыцари Круглого Стола [предания романских народов средневековой Европы в пересказах Е. Балобановой и О. Петерсон]](/books/1069544/olga-peterson-rycari-kruglogo-stola-predaniya-rom.webp)