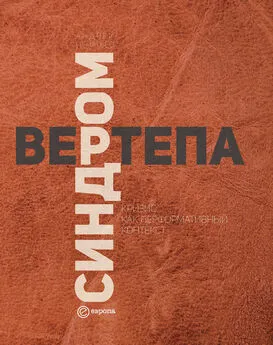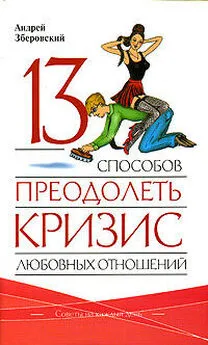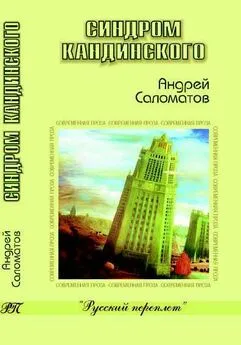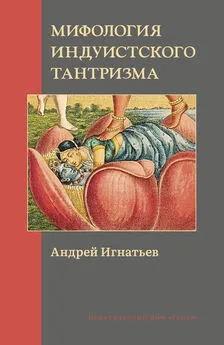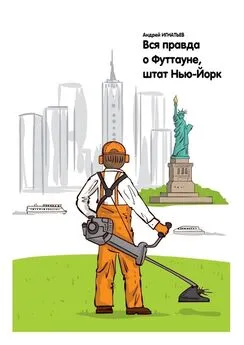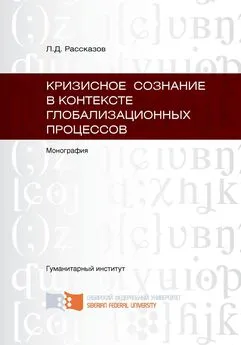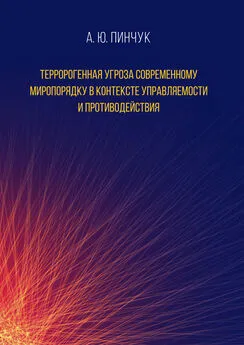Андрей Игнатьев - Синдром вертепа. Кризис как перформативный контекст
- Название:Синдром вертепа. Кризис как перформативный контекст
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-6043661-0-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Игнатьев - Синдром вертепа. Кризис как перформативный контекст краткое содержание
Текст печатается в авторской редакции.
Синдром вертепа. Кризис как перформативный контекст - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В самом начале и с чисто фактической стороны движение выглядело так: примерно в середине 50-х годов прошлого века, вскоре после смерти Сталина, в Москве, Ленинграде, их ближних окрестностях, а также, говорят, в некоторых других крупных городах Советского Союза вдруг появились молодые люди, которых отличала своего рода аддикция к американской танцевальной музыке, парадигмальные образцы которой демонстрировал фильм Sun Valley Serenade с оркестром Глена Миллера в главной роли. Эти молодые люди испытывали устойчивое и достаточно сильное желание слушать блюз или буги-вуги, испытывали дискомфорт, когда лишались такой возможности, и были готовы на многое, чтобы обладать беспрепятственным доступом к предмету своей страсти, а это и есть аддикция [20] Во всяком случае, действия такого молодого человека в ситуации, когда возникала перспектива обзавестись каким-нибудь «актуальным» диском, мало отличались от тех, какие в аналогичной ситуации предпринимает наркоман или же человек, страдающий тяжким похмельем, по себе знаю.
, более того – нечто подобное происходило по всей Европе, советское общество не было исключительным случаем: музыка, привычно сопутствовавшая досугу американских военнослужащих, вдруг приобрела функцию святыни.
Тут нет никакого преувеличения: символы и практики, которые репрезентируют опыт «священного» в повседневной жизни, являются прежде всего результатом достаточно сильного и весьма специфического («нуминозного») аффекта, общего какому-то множеству индивидов и как бы превращающего их в единого действующего субъекта (communio в богословии раннего христианства, duende в дискурсе корриды и cante flamenco, условие sine qua non импровизации в искусстве и жизни). Как принято считать [21] Обзор литературы вопроса: Игнатьев А.А. Пять базовых концептов социологи и религии // Социологическое обозрение. 2014. № 1. С. 155–170.
, аффекты подобного рода, с которыми сегодня нетрудно столкнуться на футбольных матчах или рок-концертах, всегда могут быть конвертированы в символ или дискурс, публичная демонстрация которых, осуществляемая в формате какого-то общепринятого ритуала, в свою очередь, обеспечивает воспроизводство исходного трансперсонального аффекта, а вместе с ним и коллективной идентичности, которую этот аффект порождает (лат. religio, собственно, и означает состояние захваченности таким аффектом). Не случайно «там у них», в Западной Европе или США, именно рок-группы и их лидеры стали инициаторами всякого рода неортодоксальных религиозных движений, как восточных, так и автохтонных [22] Тернер С. Лестница в небо. Рок-н-ролл в поисках искупления: история рока и религии. М.: Триада, 2001. Связь между новой музыкальной культурой и опытом трансгрессии или даже непосредственно культовыми практиками хорошо заметна и тут у нас, однако этот феномен требует гораздо более основательной аналитики, нежели я могу себе позволить в данном сл у чае.
, тогда как «тут у нас» экстатические практики, связанные с новыми формами досуга и задним числом увековеченные идиомой «секс, наркотики, рок-н-ролл», стали рассматриваться как вполне реальная альтернатива «предметам веры», отсылающим к «светлому будущему» коммунизма. При желании, разумеется, такие практики вполне можно рассматривать как форму массовой психопатии, в лучшем случае – как синдром, обусловленный кризисом социальной рутины, однако до относительно недавнего времени психопатический опыт повсеместно рассматривался как частная форма религиозного, сегодня их также нередко рассматривают как альтернативные формы социализации первичного нуминозного аффекта, патологическую и успешную, не случайно тема исцеления занимает одно из центральных мест в нарративах самых разных религий.
Генезис этих новых форм досуга отнюдь не очевиден и заслуживает специального исследования, которое, сколько знаю, до сих пор не было предпринято, скорее всего, перед нами какая-то особая разновидность карго-культа, возникшего, предположительно, как следствие травматического опыта Второй мировой войны и послевоенной разрухи [23] См., в частности: Jeffrey C. Alexander. Trauma. A Social Theory. Cambridge: Polity Press, 2012.
, для советских людей по ряду причин оказавшегося в особенности тяжким. Тем не менее в данном случае гораздо более существенным является возникновение массового или, по крайней мере, достаточно распространенного спроса на «продукт», как теперь говорят, который был нешуточным вызовом не только отечественным, но и общеевропейским бытовым традициям. О характере и степени радикальности этого вызова можно судить по таким отечественным фильмам, как приснопамятная «Карнавальная ночь», появившаяся на экранах страны в самый канун нового 1957 года, или же «Взрослые дети» 1961 года, в которых наглядно показана роль этой новой музыки как маркера социальной границы между поколениями и, соответственно, фокальной точки их конфликтов, чем бы они ни были вызваны и кто бы в них ни был прав. В более широком контексте изменений или конфликтов, связанных с XX съездом партии, маркеры социальных границ между поколениями приобретали значение идеологических и политических символов конфликта между «архаистами» и «новаторами», то есть группами населения, стремящимися изменить status quo и пытающимися его сохранить, вследствие чего новая музыка стала рассматриваться как симптом реально опасного вызова сложившемуся образу жизни в целом, это значит непосредственно или в конечном итоге тоталитарному политическому режиму [24] Во всяком случае, такое можно было достаточно часто услышать от «работников идеологического фронта» или встретить на страницах газет, а вышучивать подобные максимы тогда еще не рисковали. Примерно ту же точку зрения уже в наши дни пародирует К. Шахназаров в фильме «Город Зеро» или «на полном серьезе», как говаривали в прежние времена, предлагает В. Тодоровский в фильме «Стиляги». Задним числом даже возникает смелая, но вполне правдоподобная догадка, что экстатические состояния, вызванные музыкой, танцем, флиртом и алкоголем (наркотиков тогда практически никто не употреблял, считалось «западло»), начальство от идеологии рассматривало как вполне реальную альтернативу «светлому будущему» коммунизма. Сегодня не исключаю, что они были правы.
. Такая установка, присущая далеко не только сотрудникам спецслужб или функционерам партии, но и значительному числу «простых» советских людей, объясняет, почему вполне естественное, в сущности, желание молодежи слушать музыку, которая нравится, или танцевать, одеваться и причесываться так, как того требует мода, вызвало к жизни конфликт, сначала разделивший, а потом и разрушивший советское общество.
Интервал:
Закладка: