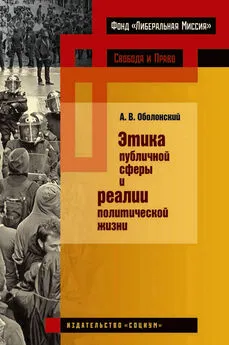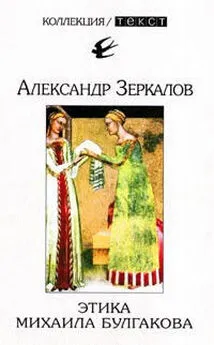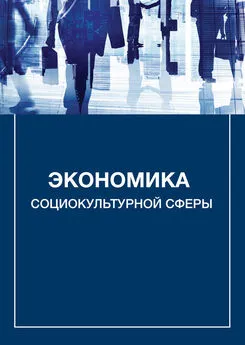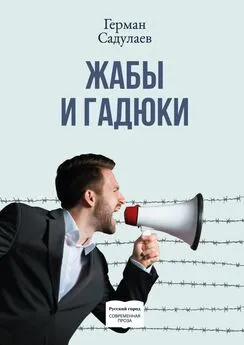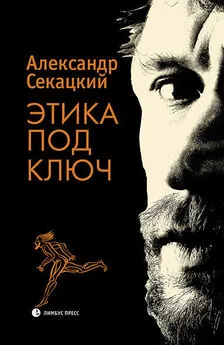Александр Оболонский - Этика публичной сферы и реалии политической жизни
- Название:Этика публичной сферы и реалии политической жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-91603-615-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Оболонский - Этика публичной сферы и реалии политической жизни краткое содержание
Этика публичной сферы и реалии политической жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Претензии ее на справедливость перечеркиваются тем обстоятельством, что рабочие и перед революцией, и долгое время после нее составляли очень незначительную часть населения страны. По официальным данным, в 1913 г. в России их было около 3 млн – всего около 2 % населения; за годы революции и гражданской войны их число сократилось более чем вдвое – даже в 1925 г. оно не доходило до 2/3 предвоенного уровня и составляло всего 1,8 млн; лишь после десяти лет форсированной индустриализации, к 1937 г., количество рабочих достигло 10-процентного рубежа, что составляло 17,5 млн. Даже если считать рабочих вместе с членами их семей (а, зная обычаи советской статистики, тут никак нельзя поручиться за отсутствие в этих случаях так называемого «повторного счета», т. е. учета одних и тех же лиц по несколько раз), то в 1928 г. они составляли 12,4 %, а в 1939 г. – 33,5 % населения [17] См.: БСЭ, т. 21. М., 1975, с. 315, 316, 318.
. И интересы этого явного меньшинства были провозглашены высшим приоритетом, в жертву которому были принесены интересы всех прочих!
Теперь об истинности лозунга о пролетарском государстве. Здесь, видимо, следует обратиться к внутренней структуре рабочего класса. Перед революцией его ядром были кадровые рабочие, хотя они и не составляли арифметического большинства. Однако мировая, а затем гражданская война, эпидемии, голод уничтожили большую их часть. Постепенное восстановление численности рабочих, а затем ее скачкообразный рост в годы индустриализации происходили главным образом за счет выходцев из деревни. В итоге кадровые рабочие стали составлять ничтожную часть класса. Большинство же образовалось из вчерашних крестьян, которые либо не нашли себе применения в деревне, либо бежали оттуда, спасаясь от коллективизации. Поэтому по своей культуре и психологии они были теми же люмпенами, только не нагло-агрессивными, как выдвиженцы, а неуверенными, запуганными, плохо ориентирующимися в новой жизненной обстановке и податливыми для любого внушения и давления.
В советские времена было принято считать, что именно кадровые, потомственные пролетарии всегда оказывали большевистской партии наиболее твердую поддержку, видя в ней свое представительство. В число кадровых рабочих входила значительная прослойка так называемой рабочей аристократии, т. е. наиболее квалифицированных и, соответственно, высокооплачиваемых рабочих, которые по своему образу жизни и типу сознания были ориентированы не столько на «братьев по классу», сколько на средние слои городского населения. Они были более или менее удовлетворены своим материальным положением, заинтересованы в социальной стабильности и потому не могли быть последовательными сторонниками большевистского экстремизма. Но, помимо того, известно и об упорном сопротивлении, которое оказывала большевистской власти в первые месяцы и даже годы после переворота значительная часть «рядовых» рабочих.
Конечно, вопросы эти нуждаются в специальном исследовании. Но, думается, и уже имеющиеся знания служат серьезным основанием, чтобы поставить большой вопросительный знак на одной из краеугольных доктрин официальной партийно-советской историографии – концепции рабочей власти. Разумеется, определенная и, вероятно, достаточно значительная часть рабочих активно поддерживала режим. Но если принять во внимание сказанное, возникает естественный вопрос: а не слишком ли узка социальная база режима, претендовавшего на роль народной власти? Не точнее ли назвать его властью люмпенов?
Так что представляется, что миф о «народной власти», использовавшийся для теоретического «освящения» политической практики террора, при более или менее структурированном взгляде не выдерживает никакой критики. Скорее можно сказать, что народ затравили «медные всадники», опиравшиеся на худших его представителей, на выродков из народной среды – смердяковых и опричников, а также на извечную системоцентристскую традицию народной покорности олицетворяемой властью судьбе, на готовность безропотно и даже с некоторым воодушевлением маршировать в колоннах по предписанным властью маршрутам, под дробь идеологических барабанов.
Тема сталинизма так же неисчерпаема, как тема мирового зла. И поскольку она не является главной темой книги, оставим ее. А в заключение раздела обозначим еще несколько проблем, заслуживающих специальных исследований и дискуссий.
Общество, отравленное моральной легимитизацией террора
Фундаментом могущества системы, несомненно, была машина террора, челюсти которой за период сталинизма перемололи десятки миллионов человеческих жизней. Анализ этого механизма – большое исследовательское поле. Но не менее важно понять, как и почему общество приняло террор в качестве допустимой и оправданной формы управления собой, почему не возникало серьезных проблем с «подбором кадров» исполнителей, а сами воспоминания о тех страшных временах до сих пор, в общем, не находят адекватного отклика в массовом сознании, а то и отторгаются им, не выполняют роль сигнальных, предостерегающих огней? Десять – пятнадцать лет назад я ставил вопрос «есть ли социальная база для рецидивов сталинской опричнины? Сейчас, к сожалению, приходится ставить его иначе: «какова она, каков ее состав?»
С позиций подхода, изложенного в нескольких моих предыдущих книгах, это объясняется тремя причинами. Во-первых, кровавый кошмар сталинщины отнюдь не был неким случайным эпизодом русской истории, а лишь продолжил движение по накатанной колее нашей древней автократической традиции периодических действий власти по геноциду собственного народа. И деяния Ивана Грозного, Петра I, красный террор – лишь самые грандиозные по масштабам, но далеко не единственные примеры. Можно без труда назвать немало и других, просто менее масштабных кампаний, когда тысячи и тысячи жизней подданных походя приносились в жертву или швырялись на кон политических игр в качестве мелкой, почти ничего не стоящей монетки.
Во-вторых, в процессе сталинского геноцида были почти подчистую вытравлены ростки другой, куда более молодой и, соответственно, менее распространенной и укоренившейся персоноцентристской, либерально-демократической традиции отношения к личности. Причем сплошная «химическая обработка почвы» в сталинский период стала лишь кульминационным актом по ее уничтожению: серьезнейший, а возможно, и решающий урон она понесла уже на ленинском этапе.
В-третьих, поскольку в сталинские преступления были в той или иной степени втянуты, по меньшей мере, как пассивные соучастники либо свидетели миллионы людей, это самым пагубным образом сказалось на уровне общественной морали в целом. Ясно, что в пределах одного поколения моральная деградация необратима. Более того, людей, жизнь которых пришлась на период разгула сталинщины, можно с грустью назвать пожизненно испуганным поколением. Но и сейчас, по прошествии стольких десятилетий, мы видим, что это зловещее прошлое не умерло. Все новые поколения в своей немалой части предпочитают оставаться в полумраке зловещей тени, которую отбросило в будущее сталинское время, не поддерживая попыток перебраться на новую историческую колею. Увы, перспективы исчезновения «штамма» сталинщины выглядят сегодня довольно проблематично.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: