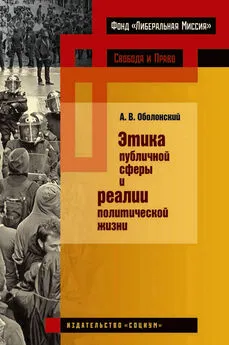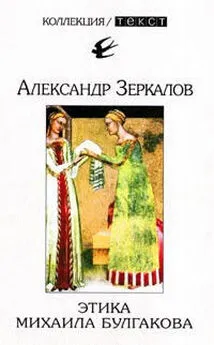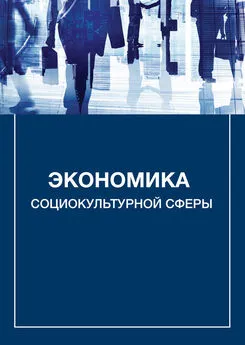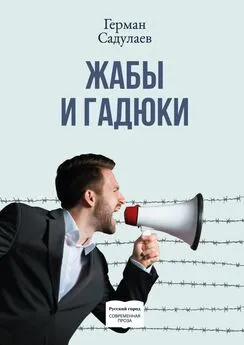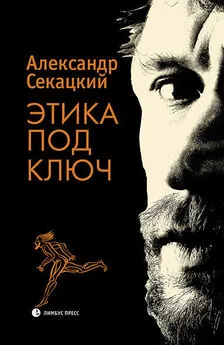Александр Оболонский - Этика публичной сферы и реалии политической жизни
- Название:Этика публичной сферы и реалии политической жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-91603-615-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Оболонский - Этика публичной сферы и реалии политической жизни краткое содержание
Этика публичной сферы и реалии политической жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ленинский этап «социальной вивисекции»
Первым из факторов социально-этического порядка, подтолкнувших тогда развитие событий в роковом направлении, была аномия, т. е. моральный кризис народного сознания. Подобный нравственный вакуум возникает, когда одна система норм по тем или иным причинам перестает выполнять роль регулятора реального поведения людей, а новая не успевает прийти ей на смену. Параллельно развивается агрессивный моральный релятивизм, ведущая посылка которого – «революционная целесообразность превыше всего», включая и нормы человеческой морали. Принцип этот отнюдь не изобретение России или той эпохи. Вспомним хотя бы такие описания психологии французского якобинца: «Против изменников все дозволено и похвально. Якобинец, канонизировав свои убийства, убивает из "любви к ближнему"»; или «все позволено тем, кто действует в духе революции, для республиканца нет опасности, кроме опасности плестись в хвосте законов республики».
В России же особая легкость перескока от идеи всеобщего благоденствия к возведенной в принцип аморальности обеспечивалась крайней неразвитостью индивидуалистических начал в национальном «генотипе», господством псевдоколлективистской этики, которую Н. А. Бердяев называл «безответственным коллективизмом»; он видел ее корень «в отрицании личной нравственной ответственности и личной нравственной дисциплины, в слабом развитии чувства долга и чувства чести, в отсутствии сознания нравственной ценности подбора личных качеств. Русский человек не чувствует себя в достаточной степени нравственно вменяемым, и он мало почитает качества в личности. Личность чувствует себя погруженной в коллектив», отчего у человека «затемнено и сознание прав, и сознание обязанностей, он утопает в безответственном коллективизме» [12] Бердяев Н. А. Духи русской революции// Из глубины. Париж. 1967. С. 96.
.
Итоговой характеристикой революционных событий в России при проекции их на шкалу социальной этики стала победа старого этического типа – системоцентризма, но в новой, более динамичной форме. Он «омолодился», заменив консервативные одежды, вывески и знамена на радикальные, но сущность осталась прежней – антиличностной. Изменилась политическая система (политический режим – меньше), но не общественная этика.
Теперь о социально-психологических детерминантах событий. Сначала об их «горячей» стадии. Во-первых, в предреволюционные годы резко активизировалась, а к 1917-му году достигла апогея извечная деструктивная традиция межгруппового антагонизма, оппозиция «мы» и «они» в ее классовой редакции. Во-вторых, в результате войны в массах значительно возрос синдром революционного социального невротизма с сопутствующими ему массовыми проявлениями жестокости, насилия, иррациональности, социальной безответственности. 3. Фрейд считал, что в определенные периоды даже целые цивилизационные сообщества впадают в патологические невротические состояния, а Э. Фромм на примере фашистских режимов описал близкие к ним садомазохистский комплекс и синдром социальной некрофилии. В-третьих, как всегда бывает в периоды кризисов, на авансцену выдвинулись особые, иные, чем прежде, типы людей. На уровне лидеров любого уровня это означало торжество типа якобинца – фанатичного доктринера, лишенного каких-либо моральных запретов и при этом обладающего искусством «оседлать толпу» через активизацию в ней разрушительных инстинктов; на уровне же массы это означало торжество бунтарских начал, разгул низменных страстей и инстинктов. Наконец, не последнюю роль сыграла доходившая почти до неправдоподобия слабость либеральных политиков.
На следующем этапе, когда стихия кризиса и массовое возбуждение стали выдыхаться, заработали другие закономерности, к числу которых относятся российская авторитарная традиция и психологическая усталость людей. Не углубляясь в данном случае в их детальное описание, обратимся к конкретным политическим механизмам, посредством которых радикалы, в первую очередь – большевики, сначала возбудили стихию народного мятежа, затем «оседлали» ее, направив в нужное им русло и поставив на службу собственным политическим целям, а потом и надели на него тоталитарную «уздечку».
1. Демагогическая спекуляция на реальных проблемах. Поскольку назревшие проблемы режимом десятилетиями не решались, а в ряде случаев и попросту игнорировались, то любая его критика, независимо от ее основательности и справедливости, стала безотказным и весьма действенным инструментом.
2. Использование новых символов веры. Место наглухо связавшего себя с царизмом и вместе с ним дискредитировавшего себя православия заняла новая религия – марксизм в его большевистской версии.
3. Возведенный в принцип аморализм. Каких-либо моральных запретов, нравственных табу для большевиков не существовало, а нравственным объявлялось все, что способствует делу революции.
4. Натравливание «революционного народа», т. е. толпы, на «социально чуждые элементы» – дворян, буржуев и землевладельцев, а также «ахфицеров» и «интеллигентиков». Массовое насилие по весьма расширительно толкуемому классовому признаку стало одним из программных принципов власти. Один из ведущих «стимулов» – прямое подстрекательство к захвату чужой собственности, поскольку уважение к ней было крайне слабо развито в народной массе. Торжество политики под лозунгом «грабь награбленное», помимо прочего, подрывало в народе начала трудовой этики, разрушало стимулы к приобретению достатка на трудовой основе.
5. Монополизация трибуны для публичных высказываний – жестокая цензура, конфискация типографий, массовое закрытие газет и журналов, аресты, отдание под трибунал, высылки редакторов и сотрудников органов печати.
6. «Двухслойность» идеологии, т. е. имманентно присущее и доктрине, и практике большевизма сосуществование в них двух принципиально различных по содержанию слоев, один из которых предназначен для внешнего, а другой – для внутреннего употребления, один – для «народа», другой – для «своих».
7. Опора на деклассированные, маргинальные слои, к числу которых относились уголовные элементы, разложившаяся солдатская масса (вспомним знаменитый образ «человека с ружьем»), другие люмпенизированные группы, на типы, которые Бердяев вслед за Достоевским назвал «Федькой-каторжником».
8. Террор как принцип организации власти. Об этой особенности режима, по счастью, сказано и написано больше, хотя и явно недостаточно. Многочисленные материалы свидетельствуют не только о разгуле вандализма толпы, но и о том, что власть большевиков с самого начала сознательно осуществляла геноцид собственного народа.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: