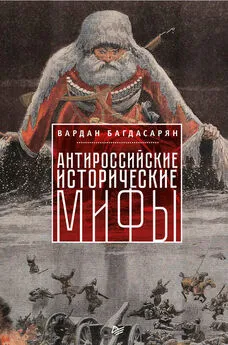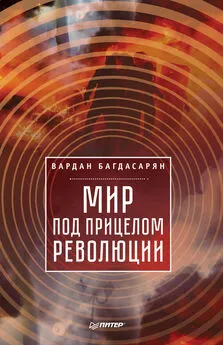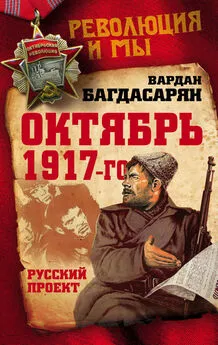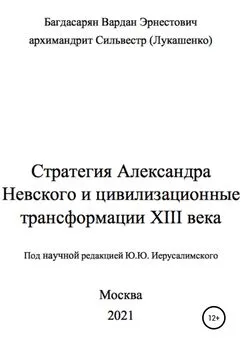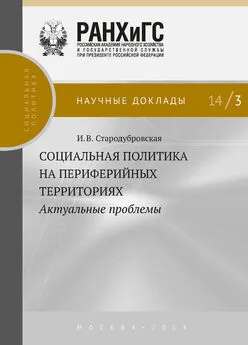Вардан Багдасарян - Актуальные проблемы государственной политики
- Название:Актуальные проблемы государственной политики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вардан Багдасарян - Актуальные проблемы государственной политики краткое содержание
Актуальные проблемы государственной политики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Позднесоветская и постсоветская политология сложилась как «сравнительная», она приняла понятия и логику западной политологии, явно или скрыто соотнося российскую реальность с описаниями западных политических и общественных институтов. Но уже в 1990-е годы эти западные институты были совершенно иными – с чем же политологи сравнивали нашу реальность?
Более того, уже в 1970-е годы западные представления, принятые у нас как методологическая основа, были подвергнуты критике на самом Западе. Один из ведущих политологов США – Дж. Сартори пишет в программной статье (1970): «Представленная в этой статье точка зрения заключается в том, что политическая наука как таковая в значительной мере страдает методологическим невежеством. Чем дальше мы продвигаемся технически, тем обширнее оказывается неизведанная территория, остающаяся за нашей спиной. И больше всего меня удручает тот факт, что политологи (за некоторыми исключениями) чрезвычайно плохо обучены логике – притом элементарной».
До нас эта критика тогда не дошла. То описание СССР, которое с конца 1970-х годов составлялось элитой нашего обществоведения, было именно «энциклопедией страны Тлен». Описание это становилось год от года все более мрачным, к 1985 г. слившись с образом «империи зла». Это одна из причин краха СССР.
Аналогичный фильтр стал важной причиной и той катастрофы, которую потерпела политическая система России в начале ХХ в. Маркс сказал, что крестьянин – «непонятный иероглиф для цивилизованного ума», а в понятиях марксизма мыслила тогда вся наша интеллигенция, включая жандармских офицеров. И вот государство Российской империи направляет свою мощь на разрушение крестьянской общины, хотя Столыпинская реформа была изначально обречена на провал. Вебер точно его предсказал, но как могли этого не видеть российские философы и юристы?
Член ЦК партии кадетов В.И. Вернадский написал в 1906 г.: «Теперь дело решается частью стихийными настроениями, частью все больше и больше приобретает вес армия, этот сфинкс, еще более загадочный, чем русское крестьянство».
И что же? Политическая система царизма действительно оказалась беспомощной перед загадкой этого сфинкса, своими руками шаг за шагом превращая армию в могильщика монархической государственности. Ведь Февральскую революцию совершила в основном армия, включая генералов.
Потом этот же путь «исходили до конца» и Керенский с Корниловым, а кадеты с эсерами начали Гражданскую войну против Советов, крестьянской общиной порожденных. У них не было шансов на успех, и Вебер это доходчиво объяснил кадетам, самой интеллектуальной партии России. Зачем же было втягиваться в такой безнадежный проект? Тем более неразумно, что вожди Белого движения так построили свою армию, что, по выражению В.В. Шульгина, пришлось «белой идее переползти через фронты гражданской войны и укрыться в стане красных». Но ведь и нынешние политологи даже не пытаются растолковать эту фразу Шульгина.
Андропов, став генсеком КПСС, признал, что «мы не знаем общество, в котором живем» 2. В этом признании было предчувствие катастрофы. Ведь это сказал человек, который много лет был председателем КГБ. Власть СССР обслуживала огромная армия обществоведов: только научных работников в области исторических, экономических и философских наук в 1985 г. было 163 тыс. человек. Гораздо больше таких специалистов работало в государственном аппарате, народном хозяйстве и социальной сфере. И такой дефицит знания об обществе!
Вот с такой научной базой стали политики перестраивать советское общество, причем методом слома и ампутации. При этом они пользовались западными учебниками и «чертежами», не располагая тем запасом неявного знания, который был у западных политиков и нейтрализовал логические ошибки этих учебников.
Когда в конце 1980-х годов начали уничтожать советскую финансовую и плановую системы, «не зная, что это такое», дело нельзя было свести к проискам агентов влияния и теневых корыстных сил (хотя и происки и корысть имели место). Правительство подавало законопроекты, народные депутаты голосовали за них, а им аплодировали делегаты съезда КПСС. Политики производили со страной убийственные операции, приговаривая: «Эх, не знаем мы общества, в котором живем, не учились мы анатомии».
Что же изменилось со времен перестройки? Эмпирический опыт получен огромный, причем на собственной шкуре – живого места нет. Казалось бы, после таких экспериментов должны мы были бы познать самих себя. Нет, это знание так и остается на уровне катакомбного. Где-то в мрачных кельях его обсуждают вполголоса, а политики так и продолжают с гордостью говорить о «неправильной стране» и «неправильном народе». Правда, теперь в щадящих выражениях: «а вот в цивилизованных странах то-то…» или «а вот в развитых странах так-то…». Эта «неправильность» России для политиков и политологов вроде бы служит оправданием их незнания.
Одним из следствий этого стало странное убеждение, что «неправильное – не существует». Гражданское общество – правильное, но его у нас нет. Значит, ничего нет! Не о чем думать и нечему тут учить. Вот, например, как стоит вопрос о характере советской правовой системы. Советское государство? Неправовое! Не было у нас права, и все тут. Подобный взгляд, кстати, стал одной из причин кризиса и политической системы России в начале ХХ в. Тогда и либералы и консерваторы восприняли дуалистический западный взгляд: есть право и бесправие. Требования крестьян о переделе земли они воспринимали как неправовое. На деле правовая система, в которой де факто жило 85% населения России, была основана на триаде право – традиционное право – бесправие. А земельное право, которому следовал общинный крестьянин, было трудовым. Не видя реальной структуры действующего в России права, и власть, и либеральная оппозиция утратили возможность диалога с крестьянством и довели дело до революции.
Точно так же советская либеральная интеллигенция времен перестройки, уверовав в нормы цивилизованного Запада, стала отрицать само существование в СССР многих сторон жизни. Настолько эта мысль овладела умами, что на телевидении дама жаловалась на то, что «в Советском Союзе не было секса».
Таким образом, от незнания той реальности, в которой мы живем, наш политический класс перешел к отрицанию самого существования реальности, которая не согласуется с «тем, что должно быть». У многих политиков это стало своеобразным методологическим принципом. Этому есть масса красноречивых примеров из рассуждений самых видных и уважаемых политических деятелей и близких к ним политологов.
Очевидно, что кризис в России представлял и представляет собой клубок противоречий, не находящих конструктивного разрешения. Но политики и политологи категорически отказываются от диалектического принципа выявления главных противоречий. Они предпочитают видеть кризис не как результат столкновения социальных интересов, а как следствие действий каких-то стихийных сил, некомпетентности, ошибок или даже недобросовестности отдельных личностей в правящей верхушке. При этом исчезает сама задача согласования интересов, поиска компромисса или подавления каких-то участников конфликта – «политический класс» устраняется от явного выполнения своей основной функции, она переходит в разряд теневой деятельности. Для прикрытия создается внесоциальный и внеполитический метафорический образ «общего врага» – коррупции, разрухи и т.п.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: