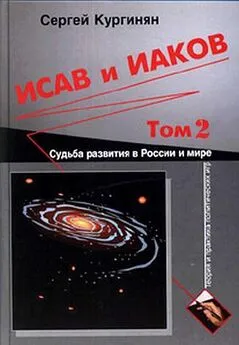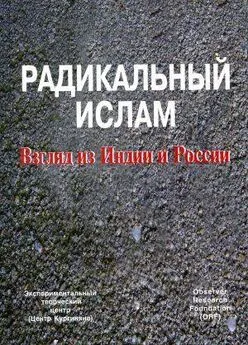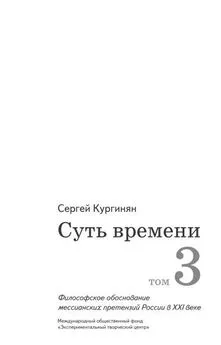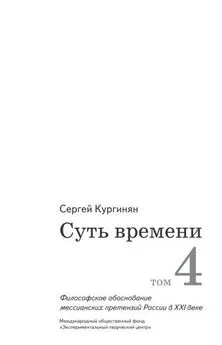Сергей Кургинян - Исав и Иаков: Судьба развития в России и мире. Том 2
- Название:Исав и Иаков: Судьба развития в России и мире. Том 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Экспериментальный творческий центр
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:ISBN 978-5-7018-0515-4 (т.2)
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Кургинян - Исав и Иаков: Судьба развития в России и мире. Том 2 краткое содержание
Известный политолог Сергей Кургинян в своей новой книге рассматривает вопрос о судьбе развития в России и мире. Кургинян отвергает два преобладающих ныне метода: академический, который он называет «ретро», и постмодернистский. Кургинян предлагает «третий метод», требующий разного рода синтезов (актуальной политологии и политической философии, религиозной метафизики и светской философии и т. д.). «Третий метод» позволяет Кургиняну доказать, что гуманизм и развитие в XXI веке в равной степени оказались заложниками «войны с Историей». Кургинян выявляет Игру как фундаментального антагониста Истории, решившего в XXI веке подвести черту под Историческим как таковым. И показывает, что выведение России из Истории за счет так называемой перестройки — это лишь первая проба пера. И что только Россия может, возвращаясь в Историю, спасти и себя, и мир. Как вернуться в Историю — вот о чем новая книга Сергея Кургиняна.
Исав и Иаков: Судьба развития в России и мире. Том 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тут просто нельзя не увидеть прямых параллелей между светской метафизикой Маркса и классической монотеистической метафизикой, которую — с легкой руки Гайденко, Лоргуса и других — все более опасаются теперь именовать «иудеохристианской». Мне же, прикованному к галере «политического par excellence», сподручнее всего ее назвать «обобщенно либеральной».
Обобщенно либеральная монотеистическая метафизика, присущая всем трем монотеистическим религиям — иудаизму, христианству и исламу, — именно в силу их монотеистичности, предполагает следующее.
Первое. Есть единая высшая инстанция — Творец.
Второе. Это — благая инстанция.
Третье. В своем благом промысле эта инстанция создала человека как «венец Творения».
Четвертое. Создав его как «венец Творения», инстанция наделила созданное своими потенциалами — творчеством и неотделимой от оного свободой воли.
Пятое. Даровав свободу воли как высшее благо, инстанция не могла не дать человеку права любого использования этого блага.
Шестое. Чтобы не играть в поддавки (а какая там свобода воли при игре в поддавки!), высшая благая инстанция даже дала некие прерогативы злу, чтобы оно могло отменить поддавки через «институт искушения».
Седьмое. На самом деле институт искушения — это вторичная, жалкая и подражательная инстанция. Дьявол — обезьяна Господа, и не более.
Восьмое. Искушение состоялось. Человек, наделенный свободой воли (как благом!), пал, и возникло повреждение (смерть, зло и так далее). Тем самым зло — это отходы производства блага, не более того.
Девятое. Повреждение исправимо. И будет исправлено.
Десятое. Человек будет участвовать в этом исправлении.
Одиннадцатое. После исправления повреждения те, кто в этом исправлении участвовал, получат даже больше, чем имели до повреждения.
Двенадцатое. Тем самым даже во зле (повреждении) есть благо. Есть благой смысл в Истории как накоплении воли к исправлению повреждения. Высшая инстанция непогрешима в своем — провиденциально благом — промысле.
Теперь сравним эту, не единственную, но преобладающую в монотеизме, метафизическую модель, ту, которую я назвал либеральной, со светской метафизикой Маркса. Для вящей внятности сравнения вновь назовем двенадцать метафизических (теперь уже светско-метафизических) принципов.
Первое. Высшая инстанция — Огонь Творчества.
Второе. Творчество — это благо. Высшая инстанция носит благой характер.
Третье. Благом обладает человек. Из всего живого он и только он наделен творческой способностью.
Четвертое. Наращивание творческой способности (то есть блага) взыскует истории.
Пятое. История амбивалентна. Обретя ее как благо (способ наращивания творческой способности), человек ее же обретает как зло (отчуждение этой обретенной способности). Чем больше блага создает история, тем больше она же создает зла, этого самого отчуждения.
Шестое. Нет блага без зла, но зло служит благу, а не наоборот. Творчество преодолевает отчуждение. Отчуждение — это повреждение. Творчество — то, что искупает повреждение. Оно — благая суть того, что повреждено.
Седьмое. Творчество и Разум как его генератор выше отчуждения и могут его преодолеть («снять»).
Восьмое. Отчуждение — отходы производства, имя коему творчество. Так, а не наоборот!
Девятое. Творчество останется и после снятия повреждения. Оно возгорится, а не погаснет.
Десятое. Спасение — это «творчество минус отчуждение». Спасение возможно, но не предопределено. Все — в руках человека и человечества.
Одиннадцатое. То, что будет после избавления от отчуждения, неизмеримо выше того, что было до отчуждения. Первобытный коммунизм — ничто перед коммунизмом подлинным.
Двенадцатое. Тем самым даже во зле (повреждении) есть благо. История может спасти и должна спасти. Нет спасения иного, нежели на крестном пути истории. В истории накапливается благой смысл, воля к исправлению повреждения. История блага по сути своей, хотя и амбивалентна.
Согласитесь, совпадения впечатляют. Но что же в фокусе этих совпадений? Сама идея повреждения. Есть Благо — Творчество. Чье творчество? Маркс не дает ответа. Но и не отмахивается от подобного вопроса. Ясно, что и для Маркса, и для его последователей предпосылкой (или недопроявленным светским метафизическим основанием теории) является присутствие в мире некоего Великого Творческого Огня.
Галина Серебрякова написала (далеко не лучший) роман о Марксе. И назвала его «Прометей». В советскую (конкретно — хрущевскую) эпоху роман о Марксе мог быть написан и опубликован только с высочайшей политической санкции. Санкцию давал лично Хрущев. Серебрякова только что вышла из лагеря, являлась наглядным примером не потерявшей веру в коммунизм жертвы сталинского режима. Хрущеву нужно было восполнить чем-то «красным» издержки проведенной им десталинизации. Серебряковой дали поработать в соответствующих (тогда еще не вывезенных на Запад) архивах. Продираясь к смыслу сквозь иносказания и плохую литературу, можно что-то понять. Это что-то вертится вокруг образа Огня.
Булгаков пытался проникнуть в тайну сталинской революционной веры и написал ради этого пьесу «Батум» (первое название — «Пастырь»). В пьесе молодой Сталин поднимает тост за некое братство революционеров. Вот что булгаковский Сталин говорит об этом братстве:
Сталин . Ну, что же… По поводу Нового года можно сказать и в пятый раз. Хотя, собственно, я и не приготовился. Существует такая сказка, что однажды в рождественскую ночь черт украл месяц и спрятал его в карман. И вот мне пришло в голову, что настанет время, когда кто-нибудь сочинит — только не сказку, а быль. О том, что некогда черный дракон похитил солнце у всего человечества. И что нашлись люди, которые пошли, чтобы отбить у дракона это солнце и отбили его. И сказали ему: «Теперь стой здесь в высоте и свети вечно! Мы тебя не выпустим больше!» Что же я хотел сказать еще? Выпьем за здоровье этих людей! Ваше здоровье, товарищи!
Ну, вот… Так много сказано о каком-то «ордене меченосцев». А если верить Булгакову, речь идет о совсем другом ордене. Об ордене «огненосцев», который хочет отбить Солнце у дракона, некогда укравшего этот вселенский огонь у людей. Ясно, что солнце — это подлинная человеческая огненная творческая сущность. А дракон — то, что эту сущность отчуждает. Что Прометей, вернувший людям огонь, что орден огненосцев, освободителей огня…
О таком же акте возвращения огненного дара говорит Горький в легенде о Данко.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: