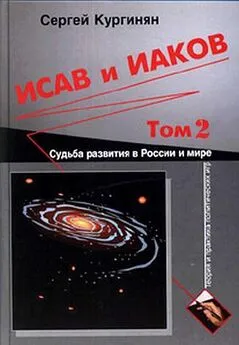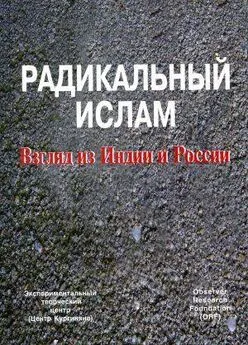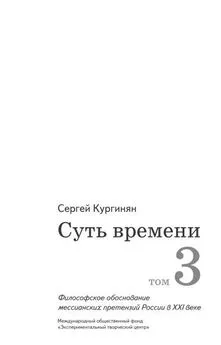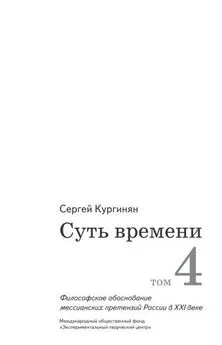Сергей Кургинян - Исав и Иаков: Судьба развития в России и мире. Том 2
- Название:Исав и Иаков: Судьба развития в России и мире. Том 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Экспериментальный творческий центр
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:ISBN 978-5-7018-0515-4 (т.2)
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Кургинян - Исав и Иаков: Судьба развития в России и мире. Том 2 краткое содержание
Известный политолог Сергей Кургинян в своей новой книге рассматривает вопрос о судьбе развития в России и мире. Кургинян отвергает два преобладающих ныне метода: академический, который он называет «ретро», и постмодернистский. Кургинян предлагает «третий метод», требующий разного рода синтезов (актуальной политологии и политической философии, религиозной метафизики и светской философии и т. д.). «Третий метод» позволяет Кургиняну доказать, что гуманизм и развитие в XXI веке в равной степени оказались заложниками «войны с Историей». Кургинян выявляет Игру как фундаментального антагониста Истории, решившего в XXI веке подвести черту под Историческим как таковым. И показывает, что выведение России из Истории за счет так называемой перестройки — это лишь первая проба пера. И что только Россия может, возвращаясь в Историю, спасти и себя, и мир. Как вернуться в Историю — вот о чем новая книга Сергея Кургиняна.
Исав и Иаков: Судьба развития в России и мире. Том 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вот тут, согласитесь, уже есть все основания для постановки ребром наиболее острых вопросов. По отношению к которым все предыдущее (использую бытовые метафоры Кураева) — это метафизическая манная каша. А теперь-то мы и впрямь добрались до метафизического, так сказать, шашлыка.
Оставим в покое Оригена. Хотя называть его «уклонизм» атавизмом языческой мысли я бы не стал. Но поскольку Ориген мне в данном случае неинтересен, то зачем я буду спорить по поводу характеристик, данных неинтересному. Тем более, что и сама характеристика, по мне, так абсолютно неинтересна.
А вот что такое евангельский радикализм — это вопрос серьезный. Евангельский радикализм — это хорошо или плохо? Евангелие — это прекрасно. Но ведь можно исказить даже прекрасное. Что такое радикализм? Кураеву нужно зафиксировать для «нехороших уклона», так сказать, правый (вяло атавистический) у Оригена и левый у св. Григория?
Или же он хочет противопоставить плохого Оригена хорошему Григорию? Хотел бы он этого противопоставления — спорить бы было не о чем. Но мне-то кажется очевидным, что он говорит о двух плохих уклонах. И что второй, плохой уклон — левый (Нисского) — он называет евангельским радикализмом.
Но нет ли связи между евангельским радикализмом по Андрею Вячеславовичу Кураеву и хилиазмом по Пиаме Павловне Гайденко?
То, что хилиазм для Пиамы Павловны является почвой для новых красных всходов, которую надо убрать, дабы не было этих всходов, понятно.
Но не является ли для Андрея Вячеславовича чем-то подобным евангельский радикализм? Мне кажется, что это именно так. И я свое это предположение (разумеется, только предположение) продолжу доказывать соответствующими цитатами. Начну с того, что приведу еще одну цитату из все той же книги «Сатанизм для интеллигенции». Обсуждая позиции отцов Церкви (св. Василия Великого, св. Григория Нисского, св. Григория Богослова), Кураев делает следующее утверждение:
«Один вопрос при этом не ставил ни тот, ни другой мыслитель: а что, если некая душа в своей свободе до конца воспротивится Христу?.. Станет ли Творец спасать ее насильно? Поэтому Собор отстранил идею апокатастасиса независимо от ее обоснований. На имя св. Григория Нисского оказалась брошена тень. Он лично не был осужден Собором, он и поныне почитается как один из величайших святых богословов Православной Церкви. Но отвержение Церковью одной из его концепций привело к изменению богослужебного календаря. Праздник «Трех святителей», посвященный почитанию трех друзей — св. Василия Великого, св. Григория Нисского (родного брата св. Василия) и св. Григория Богослова {однокурсника св. Василия по Афинскому университету) был несколько изменен. Вместо Григория Нисского в эту троицу наиболее авторитетных и безупречных церковных богословов был поставлен Иоанн Златоуст».
Согласитесь, смысл этого утверждения (осторожного, как и все другие утверждения Кураева по поводу апокатастасиса) достаточно очевиден. Григория Нисского надо… не скажу, что скомпрометировать, но чуть-чуть проблематизировать: «Эх, если бы не его увлечение апокатастасисом, сопряженное с «евангельским радикализмом»! А ведь как за счет этого увлечения, этого радикализма статус понизился! «Тень на имя» была брошена! Богослужебный календарь изменен! Из троицы безусловных и безупречных церковных авторитетов он был выведен! И все из-за этой самой приверженности апокатастасису и «евангельской радикальности». Не надо так уклоняться! И соблазняться!»
А вот еще одна цитата, на этот раз из лекции А. Кураева в Горловке: «Церковь осуждает концепцию Оригена об апокатастасисе. Именно Оригена. Там очень сложная формулировка, у решений VI Вселенского Собора, в которой излагается вся концепция Оригена. Но идея-то там именно кармической химчистки, что во многих мирах, через много попыток со временем все будут спасены, все осознают. То есть идея всеобщего спасения предполагает неуважение к идее свободы выбора. «Вам не удастся избежать рая, и не пытайтесь!» Ортодоксальное христианство в этом смысле более серьезно.
Есть другой вариант идеи апокатастасиса, не оригеновский и не осужденный Вселенским Собором. Это мнение св. Григория Нисского, тоже о всеобщем спасении. Но у Оригена акцент на то, что души сами постепенно очистятся и придут к спасению, а у Григория Нисского речь идет о том, что господь по милости своей презреет наши прегрешения. И в океане божественной любви все наши прегрешения, как горсть песка, смоет. То есть у Григория Нисского акцент не на нашем субъективном процессе, а на океане божьей милости спасающего.
Вот эту версию церковь не приняла, но и не осудила (выделено мною. — С. К.). Это не стало частью общецерковного учения, но и не осуждено. В том числе это звучит в пасхальном слове Златоуста. «Христос воскрес и ни единого гроба во аде». Это сверхнадежда надежд. Но принять эту надежду как догму означало бы принять успокоительное. В реальной человеческой жизни: «Все будет нормально!» Как в советские времена — хошь не хошь, а победа коммунизма будет гарантирована. И поэтому церковь это не приняла.
Есть замечательная цитата у Иоанна Лествичника: «Ты не читай книг этого пса Оригена о всеобщем спасении. Ты можешь принять эту мысль в себя на одну минуту в том случае, если ты впал в отчаяние». То есть как сильнодействующее лекарство против отчаяния это можно принять, но как норму своего убеждения нельзя. Растормозишься».
Согласно этой цитате, версию Григория Нисского «церковь не приняла и не осудила». А вот другая цитата из другой работы того же Кураева. Работа называется «Святые люди и их книги». Говорится буквально следующее: «Впрочем, некоторые святоотеческие взгляды прямо осуждались Соборами (теория апокатастасиса св. Григория Нисского (выделено мною. — С.К), несторианская христология преп. Исаака Сирина, антропология Евагрия Понтийского)».
Так что же, в конце концов, считает Кураев? Что церковь не приняла и не осудила теорию апокатастасиса св. Григория Нисского (так сказано в его лекции в Горловке) или что она осудила эту теорию (так сказано в его же работе «Святые люди и их книги»)? Впрочем, дело даже не в разночтениях, а в тоне. В лекции А. Кураева, прочитанной в Горловке, главное — тон. Апокатастасис — это нечто вроде победы коммунизма в советские времена. То есть нечто явным образом «от лукавого». Это «сильнодействующее лекарство, а не норма убеждения». Сделаешь это «нормой убеждения» — «растормозишься».
Пусть читатель, считающий, что я увлекся цитированием Кураева, доверится ненадолго моей аналитической интуиции. Чуть позже станет ясно, что я увлекся не зря. И что цитирование надо продолжить, включив в круг цитируемых произведений книгу диакона Андрея Кураева «Раннее христианство и переселение душ»: «И еще одну тему для многовековых церковных дискуссий оставил нам в наследство Ориген. Это вопрос о «всеобщем спасении» (апокатастасис). Может ли Бог в конце концов спасти всех, даже самых отъявленных мерзавцев и сознательных богоборцев? Итог церковных дискуссий на эту тему лучше всего, кажется, смог подвести Оливье Клеман (выделено мною. — С.К.) . В одной из книг этого современного французского православного богослова глава «Об аде» начинается так: «Православная церковь не ставит пределов ни свободе Бога, ни свободе человека. Это означает, что она не ставит пределов ни милосердию Божию, ни человеческой возможности навечно отказаться от этого милосердия»».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: