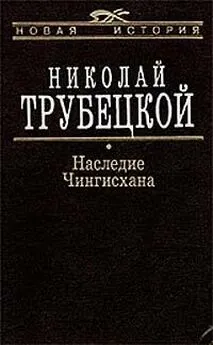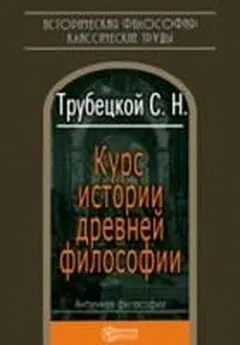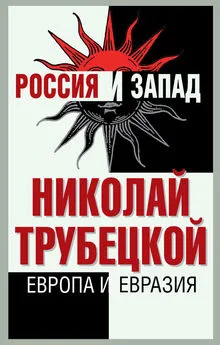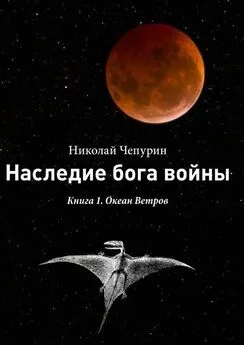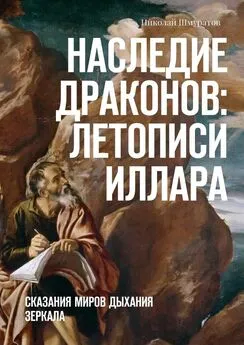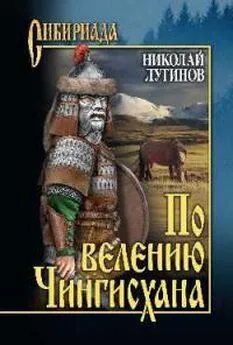Николай Трубецкой - Наследие Чингисхана
- Название:Наследие Чингисхана
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аграф
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:5-7784-0082-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Трубецкой - Наследие Чингисхана краткое содержание
Данное издание продолжает серию публикаций нашим издательством основополагающих текстов крупнейших евразийцев (Савицкий, Алексеев, Вернадский). Автор основатель евразийства как мировоззренческой, философской, культурологической и геополитической школы. Особое значение данная книга приобретает в связи с бурным и неуклонным ростом интереса в российском обществе к евразийской тематике, поскольку модернизированные версии этой теории всерьез претендуют на то, чтобы стать в ближайшем будущем основой общегосударственной идеологии России и стержнем национальной идеи на актуальном этапе развития российского общества. Евразийская идеологическая, социологическая, политическая и культурологическая доктрина, обозначенная в публикуемых хрестоматийных текстах ее отца-основателя князя Трубецкого (1890–1938), представляет собой памятник философской и политической мысли России консервативно-революционного направления. Данное издание ориентировано на самый широкий круг читателей, интересующихся как историей русской политической мысли, так и перспективами ее дальнейшего развития.
Наследие Чингисхана - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Впрочем, это все вещи, которых г-н Уэллс не заметил или о которых он не подумал. От человека, пробывшего в России всего 15 дней, конечно, нельзя требовать, чтобы он все заметил и обо всем подумал. Гораздо интереснее, как отнесся г-н Уэллс к тому, что он видел. Общую картину разрушения он, конечно, не мог не заметить, тем более что ее от него никто и не собирался скрывать. Но это разрушение есть само по себе объективный факт, вполне нейтральный. Все зависит о того, как этот факт объяснить. А объяснение из кратковременного наблюдения выведено быть не может, и г-ну Уэллсу за объяснением, очевидно, пришлось обратиться к своим знакомым. Знакомые эти все принадлежали к «руководящим кругам», ибо те, которые к этим кругам не принадлежали, естественно, не пускались с г-ном Уэллсом в особенно откровенные разговоры, прекрасно понимая, что эти разговоры так или иначе будут напечатаны. Поэтому объяснение русской разрухи, русского крушения оказалось очень простым, а главное — нам, русским, читавшим большевистские газеты, — чрезвычайно знакомым: оказывается, большевики здесь ни при чем; все произошло исключительно только из-за царизма, капитализма, империализма и, главное, из-за блокады. Большевики только борются с разрухой, и только благодаря их энергии Россия до сих пор еще не погибла. Приехав в Россию на 15 дней, притом по истечении 6 лет со времени своего последнего, столь же кратковременного посещения России, г-н Уэллс, естественно, принужден судить о том, что за это время происходило на нашей родине, только с чужих слов. А так как те сотни тысяч эмигрантов, которые за это время выехали из России, «достойны полного презрения в политическом отношении», то г-ну Уэллсу остается только судить обо всем происходившем и происходящем в России со слов руководителей советской политики. Поэтому весьма естественно, что описание событий русской жизни за последние годы в книге Уэллса не всегда совпадает с нашими собственными наблюдениями и воспоминаниями. Уэллс совершенно правильно придает решающее значение в истории русского крушения развалу фронта и явочным порядком произведенной демобилизации бывшей русской армии в 1917 году. Но он, по-видимому, совершенно не знает о той роли, которую в этом явлении играли теперешние правители России. Он констатирует, что при большевиках случаи уличных грабежей и убийств стали гораздо менее часты, чем они были в первый период революции. Но ему, по-видимому, осталось неизвестно, что это произошло главным образом вследствие систематизации и монополизации грабежа советским правительством, вступления всех профессиональных бандитов в ряды разных отрядов особого назначения, а также и вследствие того, что грабить-то теперь уже больше некого [119]. Гениальность большевиков, по мнению г-на Уэллса, проявилась особенно во введении «системы пайков». Но английский путешественник, по-видимому, не знает, что нормированные цены и продовольственные карточки были введены гораздо раньше, отчасти уже при старом режиме, и что нововведение большевиков в этой области состояло главным образом в пользовании этой системы для удерживания в повиновении своих служащих и для выживания со света тех, кто не хочет подчиниться им.
Все эти промахи в изложении фактической стороны дела, конечно, весьма естественны и понятны, если принимать во внимание полную зависимость г-на Уэллса от своих информаторов и его трезвую благожелательную доверчивость. Но что в книге Уэллса особенно замечательно, это его впечатления от личных бесед с корифеями большевизма. Характеристики, которые он дает этим людям и их работе, поистине неожиданны. Прежде всего, оказывается, что самая основная и типичная черта большевиков и большевизма есть честность. Об этой черте Уэллс говорит настойчиво несколько раз. Даже в красном терроре он усмотрел что-то «честное». Но, кроме этого несомненного достоинства, г-н Уэллс признает у большевиков и недостатки. Недостатки эти, впрочем, совсем не те, которые приписываем им мы: главные недостатки большевиков, по мнению г-на Уэллса, — это неопытность и наивность. Заметьте, что дело идет не о каких-нибудь матросах или красноармейцах, а о вождях большевизма, о руководителях советской политики, которые сумели обойти правительство Вильгельма и вот уже более двух лет искусно водят за нос всех корифеев европейской дипломатии с Ллойд Джорджем и Вильсоном во главе, — оказывается, все это — по наивности и неопытности. Особенно наивен Зиновьев. Он не имеет никакого представления о том, что происходит в Ирландии, и все силится понять, кто из борющихся там сторон — пролетарии и кто буржуи. А когда Уэллс стал расспрашивать этого неопытного простака, что именно он делал в Баку на съезде азиатского пролетариата то оказалось, что тот и сам не знает, зачем туда ездил. И такое же впечатление бесконечной наивности производили на Уэллса все большевики, с которыми ему приходилось встречаться, кроме разве Ленина, хотя и тот под конец сорвался и начал занимать своего собеседника каким-то детским лепетом об электрификации России. Мы совершенно не сомневаемся в том, что во всех подобных беседах, происходивших во время путешествия по России г-на Уэллса, одна из участвующих сторон была детски наивна. Но были ли этой стороной именно большевики — в этом позволительно усомниться. Одно из двух: или большевики сумели прикинуться дурачками, или г-н Уэллс со своим чисто английским желанием свести все «на простоту» настолько уверен в непогрешимости своего простого и трезвого здравого смысла, что уже заранее считал всякого подходящего к нему человека наивным простаком.
В общем г-ну Уэллсу большевики скорее понравились. Немножко, правда, наивные и простоватые, увлекаются каким-то скучнейшим Марксом, верят каким-то сказкам о таинственном заговоре международного капитала, но в общем — милые люди и, главное, честные. Зато остальные русские — ниже всякой критики. Крестьяне — бессмысленные полуживотные; интеллигенты — никчемные болтуны, а генералы — так просто разбойники. Большевики в конце концов — единственные люди, с которыми можно разговаривать. Прямо удивительно, как могла существовать Россия раньше, когда эти люди не стояли у власти! Во всяком случае, если теперь на место их сядут какие-нибудь другие русские, то ничего путного они не сделают, а будут только пьянствовать и развратничать.
Таковы общие впечатления г-на Уэллса о России и русских. Следует заметить и особенно подчеркнуть, что он не только не коммунист, но даже и не марксист, что он считает коммунизм утопией и большевистские эксперименты — обреченными на неудачу. Какой же вывод он делает из всего этого, какой план решения русского вопроса кажется ему наилучшим?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: