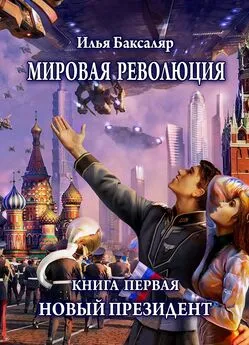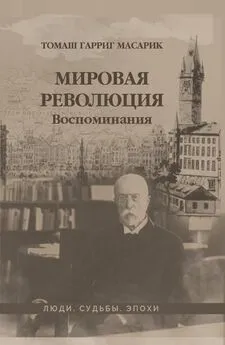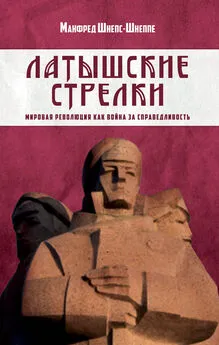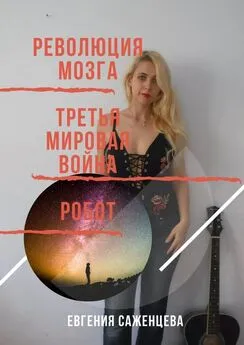Вадим Роговин - Мировая революция и мировая война
- Название:Мировая революция и мировая война
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Москва»
- Год:1998
- Город:Москва
- ISBN:ISBN 5-85-272-028-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Роговин - Мировая революция и мировая война краткое содержание
Вадим Захарович Роговин (1937—1998) — советский социолог, философ, историк революционного движения, автор семитомной истории внутрипартийной борьбы в ВКП(б) и Коминтерне в 1922—1940 годах. В этом исследовании впервые в отечественной и мировой науке осмыслен и увязан в единую историческую концепцию развития (совершенно отличающуюся от той, которую нам навязывали в советское время, и той, которую навязывают сейчас) обширнейший фактический материал самого драматического периода нашей истории (с 1922 по 1941 г.).
В шестом томе анализируется состояние советского общества после «великой чистки» 1936—1938 годов. Описывается международное положение, которое складывалось в мире в преддверии мировой войны, и рассматриваются события, связанные с подготовкой и подписанием советско-германского пакта 1939 года. Специальный раздел посвящен роли Л. Троцкого в истории зарождения IV Интернационала, в предупреждении опасности фашизма. На основе недавно опубликованных архивных материалов и мемуарных свидетельств освещаются первые этапы подготовки убийства Троцкого.
Мировая революция и мировая война - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На XVII съезде Сталин и Молотов объявили, что государство необходимо для борьбы с «остатками» старых господствующих классов и в особенности с «осколками» троцкизма, которые хотя и «ничтожны», но зато крайне «ожесточены». Поэтому борьба с ними требует высшей бдительности и беспощадности. «Теория эта,— писал Троцкий,— больше всего поражала своей глупостью. Почему для борьбы с бессильными „остатками“ понадобилось тоталитарное государство, тогда как для низвержения самих господствующих классов вполне достаточно было советской демократии? На этот вопрос никто не дал ответа».
Теорию периода XVII съезда пришлось отбросить и потому, что пять лет после этого съезда ушли на истребление «осколков троцкизма». При этом «дело зашло так далеко, что Сталин на последнем съезде вынужден был для успокоения своего собственного аппарата обещать, что в дальнейшем не будет прибегать к суммарным чисткам. Это, конечно, неправда: бонапартистское государство вынуждено будет и впредь пожирать общество не только духовно, но и физически. Однако Сталин в этом признаться не может. Он клянётся, что чистки не возобновятся. Но если так, если „осколки“ троцкизма вместе с „остатками“ старых господствующих классов истреблены окончательно, то спрашивается: против кого же нужно государство?» [84] Бюллетень оппозиции. 1939. № 77—78. С. 9—10.
На XVIII съезде Сталин ответил на этот вопрос следующим образом: необходимость государства вызывается капиталистическим окружением и вытекающими из него опасностями для страны социализма. Поэтому армия, карательные органы и разведка «своим остриём обращены уже не во внутрь страны, а во вне её, против внешних врагов» [85] XVIII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). С. 35.
.
«Новая теория Сталина,— замечал Троцкий,— верна лишь в той части, в какой она опровергает его старую теорию; во всём остальном она никуда не годна» [86] Бюллетень оппозиции. 1939. № 77—78. С. 11.
. Особенно чётко это видно из рассуждений Сталина о функциях карательных органов и разведки, которые, по его словам, необходимы «для вылавливания и наказания шпионов, убийц, вредителей, засылаемых в нашу страну иностранной разведкой» [87] XVIII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). С. 35.
. В этой связи вставал вопрос о том, какое место занимают шпионы, террористы и саботажники по отношению к большинству советских граждан. Ведь такого рода элементы нуждаются в прикрытии, в сочувственной среде. Между тем сам Сталин много раз говорил в своём докладе о внутренней солидарности и пресловутой «монолитности» советского общества. «Чем выше солидарность общества и его привязанность к существующему режиму,— писал по этому поводу Троцкий,— тем меньше простора для антисоциальных элементов. Как же объяснить, что в СССР, если верить Сталину, совершаются на каждом шагу такие преступления, подобных которым не встретить в загнивающем буржуазном обществе? Не достаточно ведь одной злой воли империалистских государств! Действие микробов определяется не столько их вирулентностью, сколько силой сопротивления живого организма. Каким же образом в „монолитном“ социалистическом обществе империалисты могут находить бесчисленное число агентов, причём на самых выдающихся постах? …Наконец, если социалистическое общество в такой степени лишено внутренней упругости, что спасать его приходится посредством всесильной универсальной и тоталитарной разведки, то дело выглядит очень плохо, раз во главе самой разведки оказываются негодяи, которых приходится расстреливать, как Ягоду, или с позором прогонять, как Ежова. На что же надеяться? На Берию? Но и его час пробьёт!»
Троцкий указывал, что в действительности НКВД истребляет не шпионов и империалистических агентов, а политических противников правящей клики. Каковы же те причины, которые вынуждают бюрократию маскировать свои действительные цели и именовать своих революционных противников иностранными шпионами? Наличие этих подлогов нельзя объяснить действиями капиталистического окружения. «Причины должны быть внутреннего порядка, т. е. вытекать из структуры самого советского общества» [88] Бюллетень оппозиции. 1939. № 77—78. С. 11—12.
.
IX
Политический режим и социальные отношения
Троцкий выводил тоталитарный характер сталинистского политического режима из сложившихся в СССР социальных отношений, прежде всего отношений в сфере распределения. Подчёркивая поверхностность объяснения тоталитарного характера власти личным властолюбием Сталина, он писал: «Власть не есть нечто бестелесное. Власть даёт возможность распоряжаться материальными ценностями и присваивать их себе». Узурпировав власть рабочего класса, бюрократия, вынужденная ещё приспосабливаться к традициям и завоеваниям Октябрьской революции (национализированная собственность и плановое хозяйство), эксплуатирует эти завоевания ради собственных интересов, враждебных интересам народа и социалистического развития страны.
Считая главным принципом социализма полное социальное равенство, Троцкий указывал на то, что такого равенства нельзя достигнуть одним скачком. На данной стадии развития СССР сохранение дифференциации в оплате труда диктуется интересами развития производительных сил и объективно выступает «буржуазным орудием социалистического прогресса». Решающее значение для оценки социальной природы общества имеет, однако, не статика, а динамика социальных отношений, т. е. основное направление развития общества — развивается ли оно в сторону равенства или в сторону роста привилегий. Ответ на этот вопрос не оставляет места ни для каких сомнений. Социальная дифференциация в советском обществе давно вышла за пределы экономической необходимости. «Переходный характер нынешнего строя нисколько не оправдывает тех чудовищных, явных и тайных привилегий, которые присваивают себе бесконтрольные верхи бюрократии» [89] Бюллетень оппозиции. 1933. № 36—37. С. 7—8.
. Эти материальные привилегии нарастают как лавина. Страшась своей изолированности от масс, бюрократия пытается создать себе социальную опору в виде рабочей и колхозной аристократии.
Главную причину тоталитарного перерождения советского государства Троцкий видел в том, что советское общество «развивается не в сторону социализма, а в сторону возрождения социальных противоречий. Если процесс пойдёт и дальше по этому пути, он неизбежно приведёт… к ликвидации планового хозяйства и к восстановлению капиталистической собственности» [90] Бюллетень оппозиции. 1938. № 66—67. С. 20.
.
Против такого объяснения обычно выдвигалось в качестве аргумента положение Маркса о неизбежности социального неравенства и несправедливости на первых этапах социалистического строительства. Называя этот аргумент «жвачкой, которую жуют все наёмные адвокаты Сталина», Троцкий писал, что, разумеется, «на первых ступенях социализма не может быть полного равенства, что это задача коммунизма. Вопрос, однако, совсем не в этом, а в том, что за последние годы, вместе с ростом всевластия бюрократии, чудовищно растёт неравенство… В СССР неравенство не смягчается, а обостряется, причём не по дням, а по часам. Приостановить этот рост социального неравенства невозможно иначе, как революционными мерами против новой аристократии. В этом и только в этом суть нашей позиции» [91] Бюллетень оппозиции. 1939. № 75—76. С. 11.
.
Интервал:
Закладка:

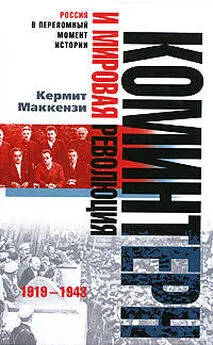

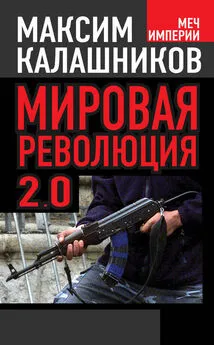
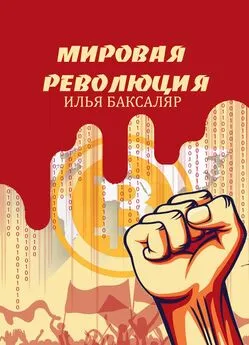
![Мишель Перро - История частной жизни Том 4 [От Великой французской революции до I Мировой войны]](/books/1081966/mishel-perro-istoriya-chastnoj-zhizni-tom-4-ot-velik.webp)