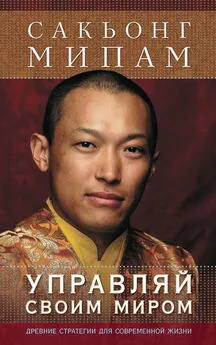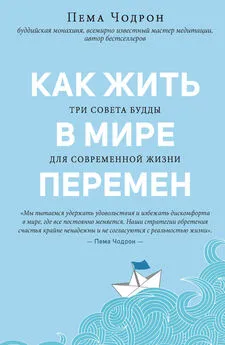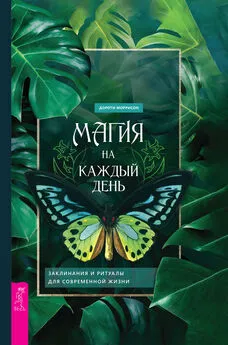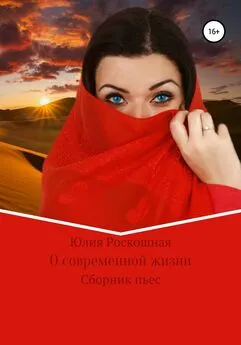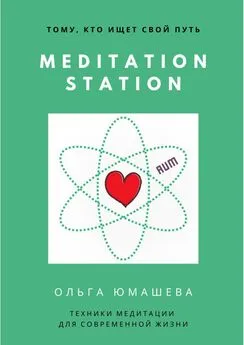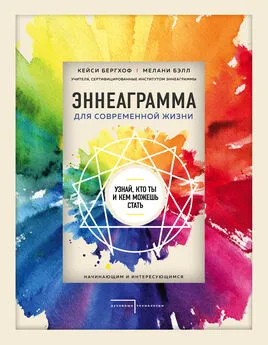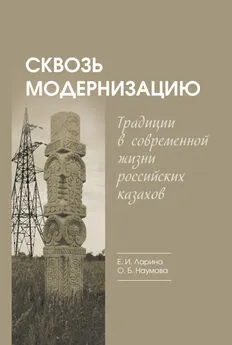Паоло Вирно - Грамматика множества: к анализу форм современной жизни
- Название:Грамматика множества: к анализу форм современной жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Паоло Вирно - Грамматика множества: к анализу форм современной жизни краткое содержание
Книга итальянского философа Паоло Вирно «Грамматика множества» (2001) несмотря на свой небольшой объем представляет собой настоящую теоретическую революцию. Вирно предлагает думать о современном обществе не в терминах разного рода идентичностей («народ», «класс», «государство»), а с помощью категории «множество» и смежных с ней понятий (исход, виртуозность, General Intellect, цинизм, болтовня, любопытство и т. п.). Согласно его концепции, современный тип производства (постфордизм) приводит к тому, что на смену традиционным общественным структурам приходят ранообразные динамические «множества», временные сообщества и кофигурации работников, сочетающие в себе мобильность, избегание идентичности, синтез разных видов деятельности, основанных на гибкости и приспособляемости к меняющимся социальным и экономическим условиям жизни.
Перевод: А. Петрова
Грамматика множества: к анализу форм современной жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
С этой антропологической доминантой позднего капитализма итальянский мыслитель и связывает появляющиеся возможности освобождения. Сегодня капитализм уже de facto создает коммунизм (как всеохватывающую общественную кооперацию, ослабляющую традиционное разделение труда и ведущую к преобладанию знаний и универсальному развитию индивида в процессе производства), и, по-видимому, остается лишь учредить его de jure. Делая столь парадоксальный вывод, Вирно и его единомышленники претендуют на максимальную трезвость по отношению к полурелигиозным иллюзиям «будущего справедливого общества», пытаясь не предаваться мечтаниям, а обнаружить возможности лучшего общества здесь и сейчас. С другой стороны, этот тезис, отбрасывающий спекулятивные рассуждения об отчуждении «родовой сущности», оставляет между царством угнетения и царством справедливости лишь небольшой барьер, препятствие – банальное экономическое отчуждение, структуру эксплуатации, т. е. присвоения прибавочной стоимости чужого труда. Казалось бы, стоит разрушить этот барьер, и «коммунизм капитала» из парадоксальной социально-исторической конструкции станет коммунизмом в собственном смысле слова. На первый взгляд это всего лишь тонкий зазор, малозначительный элемент, слепое пятно в устройстве субъекта (множества). Однако в действительности это «пятно» является серьезной помехой для полной самореализации и эмансипации человека. И – будто бы парадоксальным образом – получается, что тот же барьер, т. е. капитал, необходим для формирования нового коммунистического субъекта-множества. Такая критика высказывалась многими оппонентами идеи множества (Жижек, Рансьер и др.). Однако данный вывод мало отличается от знаменитого тезиса, высказанного еще в «Коммунистическом манифесте», о пролетариате как «могильщике», которого сам себе и создает капитал, – правда, с очень важной поправкой на современные метаморфозы как труда, так и капитала.
Безусловно, с точки зрения автора «Грамматики множества», для преодоления эксплуатации уже непригодна прежняя государственная форма суверенности (Единого), поскольку она не соответствует множеству как возникающему у нас на глазах общественному субъекту. Предпосылки теории альтернативных политических институтов, дополняющей политический проект множества, Вирно предлагает в своих более поздних работах, переосмысляющих традиционную философскую антропологию [75]. И эта перспектива поиска, эксперимента и учреждения общественных институций, которые могли бы воплотить в себе историческую тенденцию «коммунизма множества» (а не капитала), гораздо более плодотворна, чем циническая «мудрость» идеи неизбежного поражения любых форм коллективности нового типа.
Примечания
1
См.: Спиноза Б. Политический трактат. Избранные произведения. Т. 2. М.: Госполитиздат, 1957. – Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, прим. ред.
2
См.: Гоббс Т. Сочинения в 2 т. М.: «Мысль», 1989. Т. 1. С. 395. В русском переводе термин multitudo передается однозначно негативно – как «масса» или «толпа» (хотя переводчик иногда оставляет в скобках оригинальный термин), что скрывает возможности радикального прочтения этих классических текстов с точки зрения «множества». В отечественной политической философии еще необходимо проделать большую концептуальную и филологическую работу относительно классических текстов, чтобы дискуссия о «множестве» стала по-настоящему возможной. Пока ограничимся уточненными цитатами, к которым отсылает Вирно. Гоббс пишет о различии между множеством и народом следующее (приводим более полный фрагмент, из которого взята фраза, цитируемая автором): «И наконец, опасным для всякого государственного правления, а особенно монархического, является недостаточно четкое отличие народа [populus] от толпы (multitudo). Народ есть нечто единое, обладающее единой волей и способное на единое действие. Ничего подобного нельзя сказать о толпе. Народ правит во всяком государстве, ибо и в монархическом государстве повелевает народ, потому что там воля народа выражается в воле одного человека. Масса (multitudo) же – это граждане, то есть подданные. При демократии и аристократии граждане – это масса [multitudo], но собрание (curia) – это уже народ. И при монархии подданные – это толпа [multitudo], а, как это ни парадоксально, царь есть народ. Низы общества (vulgus hominum), да и многие другие, совершенно не замечающие, что дело обстоит именно так, о большом количестве людей всегда говорят как о народе, то есть о государстве. Они говорят, будто государство восстало против царя, что невозможно; или будто народ желает или не желает того или другого, когда этого желают или не желают вечно недовольные ворчуны-подданные, прикрывающиеся именем народа, подстрекающие граждан против государства, то есть толпу (multitudo) против народа. Таковы те мнения, которые способны толкнуть граждан на мятежные действия» (там же, с. 395–396, вставки в квадратных скобках наши). Таким образом, именно игнорирование фундаментального различия между народом и множеством может породить «ошибочные» мнения, которые угрожают самим основам государства. Об этом различии см. также очень важное замечание в первом примечании к гл. VI: «Имеется в виду, что масса [multitudo] как собирательное слово обозначает много объектов, например, масса [multitudo] людей есть то же самое, что и много людей. Это же слово, будучи единственного числа, обозначает один объект, а именно – одну массу [multitudo]. Но ни в том ни в другом случае не предполагается, что масса обладает единственной волей, дарованной ей природой, но каждый человек обладает собственной. А поэтому мы не должны приписывать ей единое действие, каково бы оно ни было» (с. 333–334, сверено с оригиналом, вставки в квадратных скобках наши). Именно поэтому с точки зрения грамматической формы (которая, как мы видим, также может иметь политическое значение) принципиально переводить «multitudo» на русский как «множество», в единственном числе, не отказывая ему в возможности единства, которое строится на других принципах, нежели единство народа, и связано с другим политическим проектом, нежели капиталистическое государство (см. об этом далее).
3
Там же. С. 396.
4
Privato по-итальянски означает как «частный», «приватный», так и «лишенный». – Прим. пер.
5
Здесь отчасти теряется игра слов: promessa («обещание», «посул») и premessa («предпосылка»). – Прим. пер.
6
См.: Virno Р. Mondanita. L’idea di «mondo» tra esperienza sensibile e sfera pubblica. Roma: Manifestolibri, 1994.
7
Gehlen A. Der Mensch, seine Natur und Stellung in der Welt. Berlin: Junker und Dnnhaupt, 1940. Перевод статьи A. Гелена «О систематике антропологии» см. в сборнике: Проблема человека в западной философии: Переводы. М.: Прогресс, 1988. С. 152–302.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: