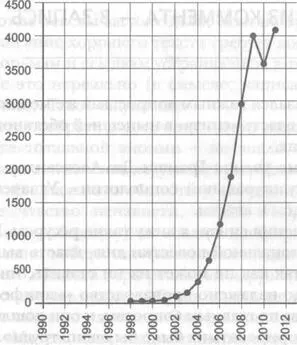Сергей Кара-Мурза - Мысли быстрого реагирования
- Название:Мысли быстрого реагирования
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Научный эксперт
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Кара-Мурза - Мысли быстрого реагирования краткое содержание
Почти 20 лет назад возникла технология общения в сравнительно небольших сообществах через интернет. Мы уже использовали эту возможность, создавая форумы.
Первый, открытый моими товарищами, работает с 1999 года до сих пор. Многим из нас он сослужил большую службу. Мы смогли обсудить важные проблемы того турбулентного времени — на форуме излагали свои мысли и сомнения приверженцы самых разных проектов и доктрин. Всем им это было надо — и высказаться, и выслушать своих оппонентов и даже противников. В основном все старались докопаться до корней наших проблем, легкая полемика не очень увлекала. Спорщики быстро уходили на другие форумы, открывали свои. Но за 5–7 лет все как-то сделали свой выбор, выстроили свои стратегии, и форум стал как тихая речка, хотя здесь обмениваются мнениями по актуальным вопросам.
Возникла иная форма — социальная сеть. Товарищ открыл мне ЖЖ и поначалу модерировал его. «Живой журнал» — гибрид газеты с форумом. Большие тексты не идут, читатели ждут коротких и простых суждений по злободневным проблемам, но рады и каким-то трактовкам на основании старого знания или опыта. Пишут свои комментарии немногие, а читают мой ЖЖ — 3–4 тысячи человек (и сколько?то в других сетях). Эта аудитория молчит, но когда мы отклоняемся от важных вопросов, «друзья» быстро разбегаются — это полезный индикатор.
Конечно, собранные здесь блоги — не научное знание, но около того. Быстрота реакции на явления нашей жизни — большое дело. Можно даже простить, что идеи и доводы сыроваты, главное — эмоции держать в руках.
Аудитория текуча, и, посовещавшись, мы решили опубликовать этот сборник блогов, «растрепанных мыслей».
Мысли быстрого реагирования - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Что же такое, что такого давала нам химия? Так ли сейчас? Помню, окно нашей комнаты в ИХПС выходило на ул. Вавилова. Видно было, как подходил трамвай от метро, спускался припозднившийся сотрудник, оглядывался воровато — и пускался к институту бегом. Пожилые стеснялись бежать, но бежали. Чтобы на пару минут раньше достать свои хроматограммы или взглянуть на кристаллы.
Но только ли в радости каждодневных открытий было дело? Вспоминаю — точно с таким же чувством мы сидели тогда у костра или погружались за водорослями у Вити Васьковского в экспедиции на Японском море, спорили за чаем о вреде и пользе безработицы, отмечали в столовой очередную диссертацию. На матрице, заданной Н.К., собрался коллектив, который, как выражаются нынешние философы, находился в «страстном состоянии». Время было такое…
Сейчас, усиленно вспоминая, я скажу с уверенностью: это состояние было разлито во всем пространстве СССР. То же самое мы чувствовали на заводе в Орске, где проходили практику, все рабочие — девушки и юноши. Как красиво они стояли, ходили, говорили! Как будто их не давили быт и суета. Как они мыслили о науке! Теперь это и представить себе нельзя.
Это было время «массового призыва» в науку. Не припомню, чтобы велась какая-то пропаганда, накачивание «престижа» науки; но сейчас вижу, что в нас, начиная с кружка химфака, было что-то вроде мессианского чувства. Может быть, у «стариков», буквально из поколения шестидесятников, оно было интенсивнее, но и на моих сверстников хватило. Меня именно оно и из химии погнало, и я только через двадцать лет упорной учебы понял, какие соблазны крылись в этом мессианизме интеллигенции массового призыва. Да и то мне память о пожарах помогла. Дьявол силен…
Думаю, что в нашей Лаборатории совместными усилиями Н.К. и его соратников-основателей, вместе задавших вектор и стандарты наших мыслей, чувств и действий, возникло, как побочный продукт их усилий, особое культурное и духовное пространство. Здесь вызрели и раскрылись качества очень разных и очень способных людей, собранных в коллектив с системными свойствами. Это был сгусток интеллектуальной и духовной энергии с большим творческим и созидательным потенциалом. И, как оборотная сторона этих свойств, был потенциал сомнения, отрицания и разрушения. Как вводить такие сгустки в режим спокойного стационарного горения — не знали и не знают.
Мне кажется, мы находились в зоне явления, важного для понимания источников силы и хрупкости российского бытия. Но трудно эту историю осмыслить тем, кто жил и дышал в этой зоне. Может, кто-то со стороны посмотрит на нас в свой прибор и запишет его показания. А я счастлив, что жил в этом коллективе, и его тепло до сих пор меня греет.
ОБЩЕСТВО
12.08.2013
К любой проблеме, которая раскалывает наше общество, можно подбираться с разных сторон. Чем больше сторон мы рассмотрим, тем надежнее вывод. При этом во многих случаях противостоящие стороны еще сильнее разойдутся, но разойдутся с пониманием друг друга. А значит, у них в запасе будет вариант компромисса, и кто-то в каждом лагере начнет думать о формуле соглашения. Это лучше, чем культивировать иррациональную ненависть (часто вообще «не к тем»).
Мне пришлось копаться в одном срезе одной широкой проблемы. В срезе — проще и нагляднее, а в целом я бы назвал ее расколом нашего культурного слоя (условно — интеллигенции) по основаниям познания и понимания нашего общества и государства. Эта беда у нас случилась в ходе русской революции, даже затолкала нас в Гражданскую войну. Потом она назревала в 1920-е гг. и разрядилась в 1930-е — эту историю я осваивал по рассказам родных, а будучи студентом — по стенограммам съездов и пленумов ЦК, изданным в те моменты, еще без цензуры. В 1950-е гг. уже пришлось вести дебаты с друзьями и оппонентами — в школе. Потом — на факультете, и в 1960-е — в лаборатории, походах и экспедициях. Тут уж, как писал Брюсов, «знаю, не окончен веков упорный спор, и где-то близко рыщет, прикрыв зрачки, раздор». И ведь это — между близкими друзьями. Потом я получил практику — поехал в 1966 г. работать на Кубу. Врос в их жизнь, в самых разных слоях и группах — тут и старые профессора, вернувшиеся из Калифорнии, и те, которых, наоборот, перехватили в лодке курсом на Флориду и вернули в университет, и студенты, отсидевшие четыре года за контрреволюционную деятельность, а оттуда — в университет, а рядом с ними — бойцы Че Гевары. И все говорят с жаром — о государстве, обществе и будущем, и требуют объяснить, как все это было в России и СССР. Тут приходилось задуматься.
Более того, меня, помимо работы в лаборатории и аудитории, втянули в проблемы организации науки на всех уровнях — от академии наук до завода и даже поля. Тут были дебаты не только с кубинцами, но и с экспертами — немцы из ГДР, чехи, поляки, молодые французы из Сорбонны (сразу после Красного Мая), левые ученые из Италии и США, да и наши специалисты — крепкий орешек. У всех были свои модели — и внутреннего уклада науки, и ее отношений с обществом и властью.
Чтобы все это утрясти в голове, я, вернувшись домой, покинул химию и занялся методологией. Давило разнообразие форм общественной организации, с которыми столкнулся, и та страсть, с которой люди отстаивали привычные им формы и трудно принимали иные. Потом были аспиранты из разных стран, с Востока и Запада, у всех самобытные типы общественных институтов — хоть в связи с наукой, но за ними видно было много необычного. Все это складывалось исторически, под какую-то абстрактную модель подогнать было трудно. Абстракции полезны, но нельзя им слишком верить, в жизни чистых моделей нет.
И вот вопрос, на который, по-моему, не так просто ответить: как получилось, что в 1980-1990-е гг. значительная часть нашей интеллигенции поверила в абстрактные и даже фантастические модели жизнеустройства, стала их с энтузиазмом пропагандировать и даже внедрять в жизнь. Совокупность этих моделей назвали «Западом», хотя множество западных же авторитетных ученых предупреждали, что на реальном Западе ничего похожего нет.
Дж. Гэлбрейт, побывав в декабре 1990 г. в Москве и побеседовав с нашими учеными-«рыночниками», так сказал об их планах: «Говорящие — а многие говорят об этом бойко и даже не задумываясь — о возвращении к свободному рынку времен Смита не правы настолько, что их точка зрения может быть сочтена психическим отклонением клинического характера. Это то явление, которого у нас на Западе нет, которое мы не стали бы терпеть и которое не могло бы выжить».
Ну, впали в утопию, наломали дров; но ведь уже 24 года прошло, а «отклонение клинического характера» все продолжается. И разговор о нем заводить считается неприличным. У разных частей общества как будто сложились разные картины мира, должна же интеллигенция как-то с этой аномалией разобраться.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: